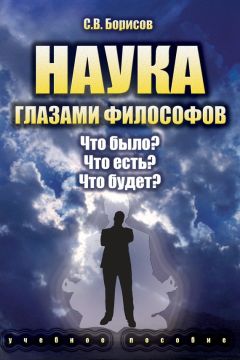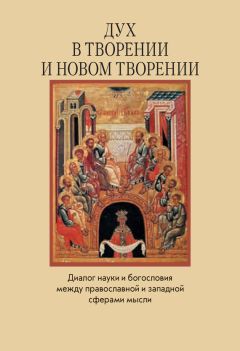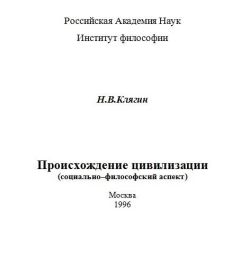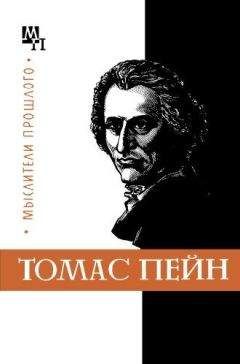Томас Кун - После «Структуры научных революций»

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "После «Структуры научных революций»"
Описание и краткое содержание "После «Структуры научных революций»" читать бесплатно онлайн.
В этот сборник, впервые опубликованный уже после смерти великого ученого, вошли статьи, в которых Томас Кун вновь обращается к темам, так или иначе затронутым в его opus magnum «Структура научных революций».
Что же такое, согласно его теории, наука – эмпирическое исследование или своеобразное «социальное предприятие»? И существует ли аналогия между развитием науки и эволюцией в природе?
Система затруднений, которую я хочу выделить, имеет отношение к последнему из этих компонентов руководства – характеристике контекстов. Рассмотрим французское слово pompe. В некоторых контекстах (обычно в тех, которые касаются церемоний) его английским эквивалентом является pomp (помпа, великолепие); в других контекстах (обычно гидравлических) его эквивалентом будет слово pump (насос). Оба эквивалента точны. Слово pompe, таким образом, служит типичным примером двусмысленности, как и стандартный английский пример bank: иногда берег реки, а иногда финансовая организация.
Теперь противопоставьте ситуацию со словом pompe таким французским словам, как esprit или «doux/douce». Esprit в зависимости от контекста можно заменить на такие английские термины, как «spirit», «aptitude», «mind», «intelligence», «judgment», «wit» или «attitude». Последнее слово, прилагательное, может относиться inter alia к меду («sweet»), к шерсти («soft»), к пресному супу («bland»), к памяти («tender») или к силе ветра («gentle»).
Это не случаи двусмысленности, это факт концептуального несоответствия между французским и английским языками. «Esprit» и «doux/douce» – единые понятия для говорящих на французском, но в английском нет эквивалентов им как единым понятиям. В результате, хотя многие варианты перевода, предложенные выше, сохраняют истинностное значение в соответствующих контекстах, ни один из них не является интенсионально точным ни в одном контексте. «Esprit» и «doux/douce», таким образом, служат примером терминов, которые могут быть переведены лишь частично и посредством соглашения. Выбор переводчиком отдельной английской фразы или слова для таких терминов оказывается ipso facto выделением определенных аспектов интенсионала французского термина при потере других. Одновременно это вводит интенсионально ассоциативные характеристики английского слова, не относящиеся к переводимому французскому слову[33]. Мне кажется, куайновский анализ перевода сильно страдает от неспособности отличить случаи такого рода от непосредственной двусмысленности, от случаев с терминами вроде pompe.
Это точно такая же трудность, как и та, с которой столкнулся Китчер при переводе понятия «флогистон». Теперь ее происхождение очевидно – это теория перевода, основанная на экстенсиональной семантике и потому сведенная к сохранению истинностного значения или какого-то его эквивалента в качестве критерия адекватности. Как и «флогистон», «элемент» и т. д., как «doux»/«douce», так и «esprit» принадлежат к совокупностям взаимосвязанных терминов, которые нужно осваивать совместно (будучи усвоенными, они структурируют некоторую часть опытного мира способом, отличным от знакомого говорящим на английском языке). Такие слова иллюстрируют несоизмеримость естественных языков. В случае с «doux»/«douce» совокупность включает в себя, к примеру, «mou»/«molle», слово, более близкое к английскому soft, но которое так же применимо к теплой влажной погоде. Совокупность, включающая «esprit», подразумевает «disposition». Последнее пересекается с «esprit» в области отношений и способностей, но также применимо к состоянию здоровья или расположению слов внутри фразы. Совершенный перевод сохранил бы эти интенсионалы, вот почему не может быть совершенных переводов. Но приближение к недостижимому идеалу остается условием современных переводов, и если бы это условие приняли во внимание, аргументы о неопределенности перевода потребовали бы формы, существенно отличающейся от той, которую они сейчас имеют.
При рассмотрении взаимосвязей один – множество Куайн в своем руководстве по переводу как случаев двусмысленности отбрасывает интенсиональные ограничения адекватного перевода. Одновременно упускает путь к пониманию, каким образом осуществляется референция слов и фраз в других языках. Хотя взаимосвязи один – множество иногда возникают из-за двусмысленности, гораздо чаще они делают очевидным, какие объекты и ситуации одинаковы, а какие отличны для говорящих на разных языках. Они показывают, каким образом другой язык упорядочивает мир.
Их функция очень близка к функции многократных наблюдений при изучении первого языка. Как ребенку для усвоения слова «собака» нужно показать множество собак и, возможно, кошек, так и говорящий по-английски человек, осваивающий слово «doux»/«douce», должен наблюдать его во многих контекстах и сделать себе примечание относительно контекстов, в которых вместо него употребляется французское «mou»/«molle».
Таковы некоторые методы, посредством которых изучаются способы соотнесения слов и фраз с природой – сначала слов собственного языка индивида, а затем, возможно, других, укорененных в иных языках. Махнув на них рукой, Куайн устраняет саму возможность интерпретации, а интерпретация – это то, что должен сделать его радикальный переводчик, прежде чем может начаться перевод. Стоит ли удивляться тому, что Куайн сталкивается с непредвиденными трудностями, связанными с «переводом»?
Инварианты переводаНаконец я обращаюсь к проблеме, которая неявно присутствовала в тексте с самого начала данной главы: что должен сохранять перевод? Не только референцию, так как сохраняющие референцию переводы могут быть непоследовательными, непригодными для понимания вследствие того, что использованные в них термины употребляются в их обычном смысле. Описание данной трудности подсказывает очевидное решение: переводы должны сохранять не только референцию, но также смысл или интенсионал. К этой позиции под названием «Инвариантность значения» я пришел в прошлом и ее я faille de mieux отстаивал во введении к данной статье. Она ни в коем случае не ложная, но в то же время и не вполне верна, что обусловлено двойственностью самого понятия значения.
Эту двойственность можно будет рассмотреть в другом контексте. Здесь я обойду ее и не буду говорить о значении самом по себе. Вместо этого я в самом общем виде рассмотрю вопрос о том, каким образом члены лингвистического сообщества выделяют референты используемых ими терминов.
Давайте проведем мысленный эксперимент (некоторые из вас знакомы с ним как с шуткой). Сначала мать рассказывает дочери историю об Адаме и Еве, затем показывает ребенку изображение пары в райском саду. Дочь смотрит, хмурится и в недоумении говорит: «Мама, скажи мне, кто есть кто. Я бы поняла, если бы на них была одежда».
Даже в такой сжатой форме история подчеркивает две очевидные характеристики языка. При соотнесении терминов с их референтами индивид может опираться на все, что знает или в чем убежден относительно этих референтов. Более того, два человека могут разговаривать на одном языке и в то же время использовать различные критерии при установлении референтов его терминов. Наблюдатель, осведомленный об этих различиях, просто-напросто решил бы, что у этих людей разные знания о рассматриваемых объектах.
Утверждение, что люди опираются на разные критерии при определении референтов используемых ими терминов, можно принимать как вполне обоснованное. В дополнение к этому я буду отстаивать широко распространенный ныне тезис, что ни один из критериев, используемых в установлении референции, не является только лишь конвенциональным, связанным с терминами лишь посредством дефиниции[34].
Как же тогда возможно, что люди, критерии которых различны, регулярно выбирают одни и те же референты для своих терминов? Первый ответ предельно прост. Их язык приспособлен к социальному и природному миру, в котором они живут, и в этом мире мы не встречаем объектов или ситуаций, которые, вследствие различия в критериях, привели бы к установлению различных референтов. Этот ответ порождает следующий, более трудный вопрос: чем определяется адекватность набора критериев, используемых говорящим при соотнесении языка с миром? Что должно объединять людей с разными критериями определения референции, чтобы они говорили на одном языке и были членами одного языкового сообщества[35]?
Члены одного лингвистического сообщества обладают также и общей культурой, и каждый из них, таким образом, может ожидать столкновения с одним и тем же набором объектов и ситуаций. Если они совпадают, то каждый человек должен соотносить индивидуальные термины с набором критериев, достаточным для того, чтобы отличить их референты от объектов или ситуаций иного рода, существующих в мире сообщества.
Чтобы верно опознавать элементы одного множества, часто необходимо знание и других множеств. Несколько лет назад я пришел к мысли, что умение опознавать гусей предполагает также знакомство с такими созданиями, как утки и лебеди[36]. Совокупность критериев, адекватных для идентификации гусей, зависит, как я показал, не только от характеристик, которыми обладают реальные гуси, но и от характеристик других созданий в мире, где обитают гуси и те, кто о них говорит. Немного референциальных терминов и выражений усваивается в изоляции как от мира, так и друг от друга.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "После «Структуры научных революций»"
Книги похожие на "После «Структуры научных революций»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Томас Кун - После «Структуры научных революций»"
Отзывы читателей о книге "После «Структуры научных революций»", комментарии и мнения людей о произведении.