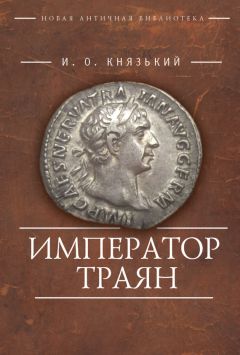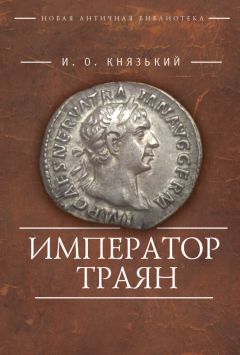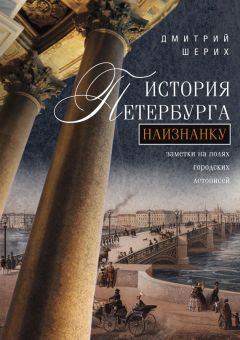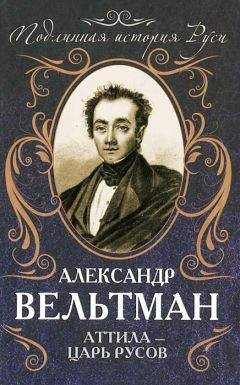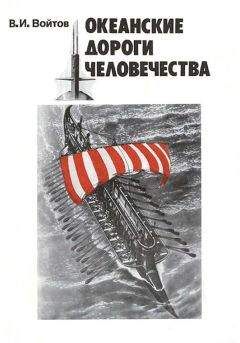Дмитрий Спивак - Метафизика Петербурга. Немецкий дух
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"
Описание и краткое содержание "Метафизика Петербурга. Немецкий дух" читать бесплатно онлайн.
Книга посвящена участию российско-немецких культурных контактов в формировании духовности «петербургской цивилизации», от лютеранских влияний петровской эпохи или «петербургско-берлинского» масонства – до «философской интоксикации» идеями Шеллинга, Гегеля, а позже и Маркса, или антропософских увлечений младших символистов. Особое место уделено длительной истории отношений новгородцев с ливонскими рыцарями и ганзейскими купцами, которым довелось внести свой вклад в предысторию «мифа Петербурга». В книге подведены итоги многолетних историко-психологических исследований, проведенных автором – доктором филологических наук, научным сотрудником Российской Академии наук. Она основана на обширном материале, собранном трудами петербургских ученых и писателей-краеведов, равно как на привлечении оригинальных немецких источников, написана занимательно и предназначена для широкого круга читателей.
Как видим, согласно традиции «колупания», новгородские купцы априорно подозревались в нечестности, и это было для них довольно оскорбительно. Что же казалось ганзейских купцов, то их кристальная честность ставилась выше всяких подозрений. Соответственно этому, «старина» прямо запрещала русским купцам взвешивать, измерять, вообще проверять любым способом качество или количество товаров, привезенных ганзейскими купцами, будь то сукна, соль или вина.
Нужно сказать, что в общем и целом Ганза действительно гарантировала высокое качество своих товаров. Вместе с тем, и здесь открывались широкие возможности для изыскания дополнительной прибыли. Ограничимся лишь одним коротким примером, почерпнутым из исторической литературы. В Ревеле ласт соли содержал 15 мешков, в Новгороде – только 12, причем цена ласта в обоих городах была одинакова. Соответственно, загрузив 2–3 корабля солью в таллинской гавани и перегнав их до Новгорода – то есть не приложив особых усилий, как и не подвергаясь великому риску (за исключением разве что мелководья «Маркизовой лужи», невских и волховских порогов, да эпизодических в летнее время штормов на Ладоге) ревельский купец получал солидную прибыль в 20 %, чем обеспечивал себе и своему семейству добрый год безбедной жизни[73].
К простейшим торговым комбинациям типа описанной выше добавлялись и другие, несколько более замысловатые. Однако в любую эпоху константой ганзейской восточной политики оставалась ориентация на натуральную прибыль, полученную за счет простого использования своего монопольного положения. Менялась и карта мира, и психология покупателей, вырабатывались новые финансовые и торговые технологии – только ганзейцы, закостенев в принципах «старины», стремились остановить время, закрыв своими грузными телами все пути из Новгорода в Европу, и предаваясь «без мыслей и слов» любимому своему, хотя по сути дела, глубоко бесперспективному «колупанию».
«Между пришедшим в движение Западом и менее подвижным Востоком ганзейские общества придерживались простейшего капитализма», – подводит итог своим размышлениям о причинах конечного упадка Ганзы виднейший историк цивилизации Ф.Бродель, – «Их экономика колебалась между натуральным обменом и деньгами; она мало прибегала к кредиту: долгое время единственной допускаемой монетой будет серебряная. А сколько традиций, бывших слабостями даже в рамках тогдашнего капитализма»[74].
Если же добавить к сказанному, что ганзейские купцы из принципа никогда не продавали русским некоторых товаров – в первую очередь, оружия – то мы легко представим себе, с каким чувством приветствовали «мужи новгородские» очередную партию заморских гостей, прибывших со своими товарами через наше тогдашнее «окно» – точнее будет сказать, «лаз в Европу». Русские, кстати, надолго запомнили оскорбительные для нашего достоинства ганзейские запреты. С еще очень живым чувством обиды их помянул, к примеру, Феофан Прокопович в одной из своих знаменитых речей, произнесенных в самый разгар Северной войны[75].
Ганзейский «Санкт-Петергоф»
На основании сказанного читатель мог бы заключить, что новгородцы были кроткими, незлобивыми людьми, по сути дела – сущими ангелами, подвергавшимися эксплуатации со стороны ганзейских купцов, и не имевшими чем возместить свои убытки. Такой вывод безусловно расходился бы с доступными нам историческими фактами. Не будучи в состоянии изменить до поры до времени правила торговли, новгородцы использовали все представлявшиеся им возможности потрясти ганзейскую мошну.
Первая такая возможность представлялась при входе ганзейских кораблей в новгородские территориальные воды, то есть чаще всего в устье Невы. Здесь их уже с нетерпением поджидали толпы русских лодочников, предлагавших заморским купцам перегрузить свои грузы на русские корабли, с целью их дальнейшей доставки до новгородских вымолов (то есть причалов). Такая практика установилась давно, на том понятном основании, что ганзейские корабли – знаменитые «коггены» или «урки» – хорошо приспособленные для морских перевозок, оказались слишком тяжелы или широки для плавания по нашим рекам и озерам.
Добровольная в самом начале, перегрузка с течением времени вошла в обычай и стала принудительной, что и давало русским лодочникам порядочные барыши. Точно в таком порядке современные таксисты занимают все лучшие места на выходе из «зала прибытия» петербургского аэропорта, что позволяет им перехватывать основной поток иностранных туристов, принуждая несчастных платить за проезд до гостиниц цену, во много раз превышающую уровень, реально сложившийся в городе (о стоимости «услуг таможни», с которой вынуждены иметь дело привозящие свои товары в нашу страну западные коммерсанты, мы даже и не говорим).
Но даже теперешние таксисты пока, кажется, не додумались до требования, периодически выставлявшегося новгородскими лодочниками. Что делать, если ганзейских товаров хватило только на часть новгородских судов, прибывших в устье Невы? – Естественно, оплатить перевозку на заполненных лодках, а кроме того, возместить дорогу порожняком в оба конца всем тем лодочникам, суда которых остались без груза…
Услышав последнее требование, произносимое новгородцами без тени смущения, ганзейцы не знали, за что хвататься – за сердце или за кошелек. Однако, услышав, что, в случае отказа, товары будут выгружены на ближайший остров и оставлены там до прибытия лодочников, согласных на какой-либо другой способ расчета, купцы обводили тоскливым взглядом «равнинность низких берегов» невской дельты, осознавали, что им долго придется тут куковать в условиях круговой поруки местного населения, отпускали несколько проклятий – и развязывали кошельки.
По прибытии в Новгород, ганзейским купцам приходилось брать опять-таки местных носильщиков, а с ними и возчиков – и, конечно, снова развязывать кошельки. Пошлины взимались новгородскими властями в самых умеренных (особенно по сравнению с некоторыми западноевропейскими странами) размерах, однако «проезжую пошлину» все-таки приходилось платить. К ней прибавлялось и «весчее», под которым следует понимать отчисления за взвешивание товаров – ну и, конечно, «святое» – то есть периодические подношения местному князю, тысяцкому или другим важным персонам.
Уплатив всем, кто на то имел право претендовать, ганзеец не мог успокоиться. Ведь в соответствии с местным законом, ему было дано право только на оптовую торговлю в пределах земли новгородской. Значит, нужно было заключать договора с новгородскими купцами, державшими местную розничную сеть, оговаривать размер предоплаты, посылать пробные партии – и соглашаться на иной раз не самые выгодные условия, в особенности если речь шла о скоропортящихся товарах.
Только решив эти проблемы, ганзейские купцы могли вздохнуть с облегчением, затворить ворота Санкт-Петергофа, и подсчитать свои прибыли и убытки. Название, упомянутое нами, наверняка остановило на себе взгляд читателя, а может быть, и вызвало его удивление. Тем не менее, принадлежавший Ганзе с давних времен «двор [при церкви] святого Петра» на территории Великого Новгорода, по-немецки носил именно это название – Sankt Peterhof.
Имя этого двора в свое время получило широкую известность, даже гремело по городам и весям Западной, равно как Восточной Европы. С его укреплением, «Новгород сделался еще важнее в купеческой системе Европы Северной: Ганза учредила в нем главную контору, называла ее матерью всех иных, старалась угождать россиянам, пресекая злоупотребления, служившие поводом к раздорам; строго подтверждала купцам своим, чтобы товары их имели определенную доброту, и чтобы купля в Новегороде производилась всегда меною вещей без всяких долговых обязательств, из коих выходили споры»… Читатель узнал, разумеется, неподражаемый стиль автора «Истории государства Российского», Николая Михайловича Карамзина (мы привели выше выписку из текста главы VII ее третьего тома).
Уже на закате Ганзы, в конце XVI века, отделывая на одной из главных улиц ганзейского Ревеля дом для своей штаб-квартиры, предводители так называемого Братства Черноголовых велели архитектору установить на фасаде дома щиты с гербами четырех гостиных дворов, исторически игравших ведущую роль в торговле Сообщества. Здание сохранилось до наших дней, теперешний его адрес – улица Пикк, дом 26. Подойдя к дому и всмотревшись в детали фриза, отделяющего первый этаж от второго, читатель и сегодня сможет увидеть эмблемы великих дворов, расположенных в Лондоне, Бергене, Брюгге – а с ними и подворья св. Петра в Новгороде (что, кстати, примерно очерчивало еще и пределы географического пространства, где доминировала Ганза – на западе, севере, юге, востоке). Был такой дом и в Риге.
Здесь нужно заметить, что имена апостолов Петра и Павла искони чтились на берегах как Волхова, так и реки Великой. Напомним, что три Петропавловских церкви маркировали три древнейших конца Великого Новгорода. У Петропавловской церкви «на берегу» – а именно, на пути от Псковского кремля к Снетогорскому монастырю – разворачивается один из ключевых эпизодов Сказания о Довмонте.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"
Книги похожие на "Метафизика Петербурга. Немецкий дух" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Спивак - Метафизика Петербурга. Немецкий дух"
Отзывы читателей о книге "Метафизика Петербурга. Немецкий дух", комментарии и мнения людей о произведении.