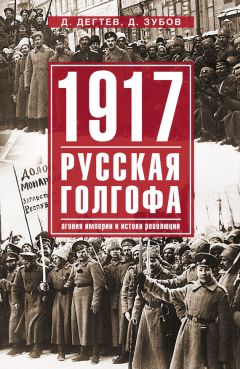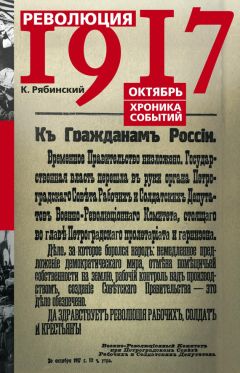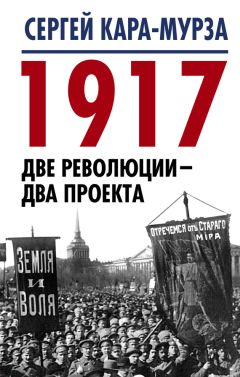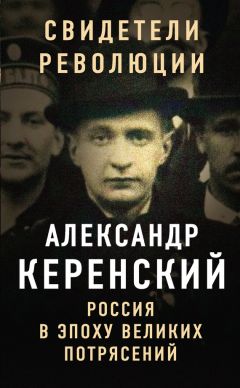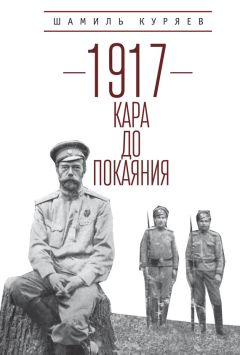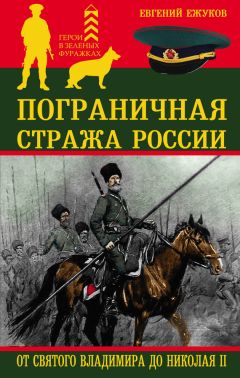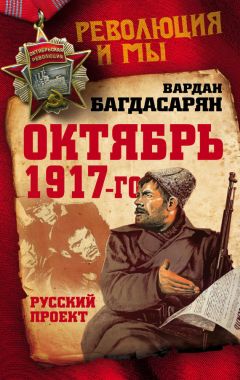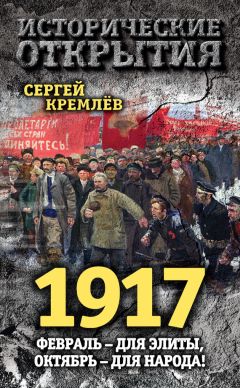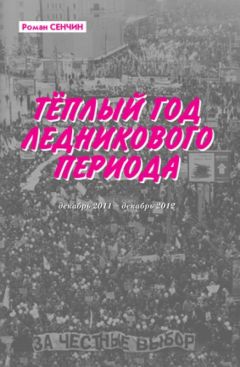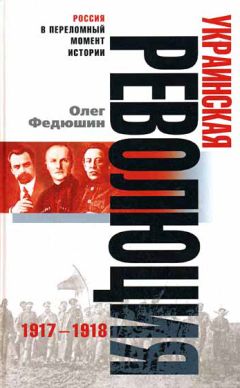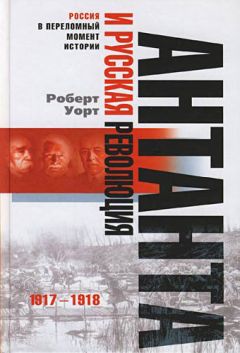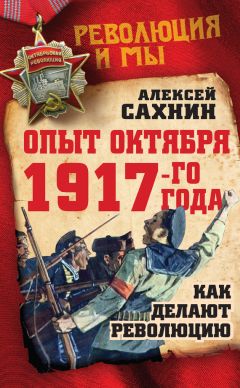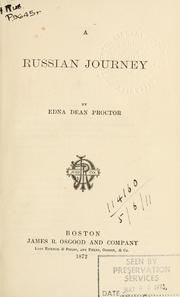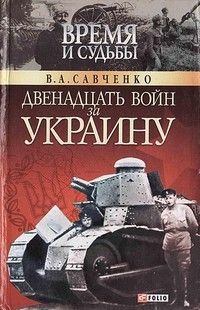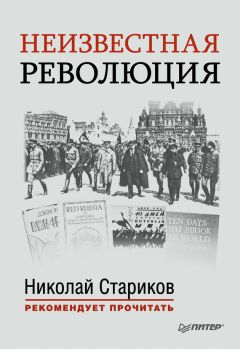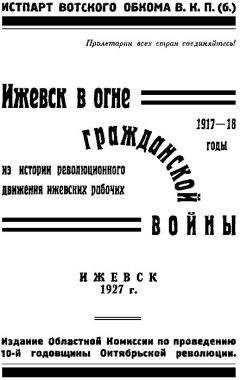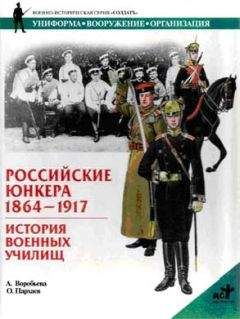Вячеслав Никонов - Крушение России. 1917
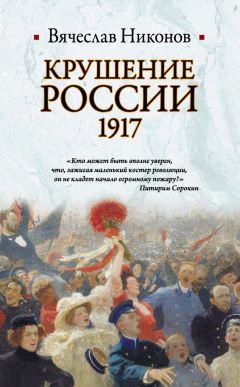
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Крушение России. 1917"
Описание и краткое содержание "Крушение России. 1917" читать бесплатно онлайн.
За свою более чем тысячелетнюю историю Россия всего четыре раза терпела Крушения. Когда разрушались традиционные формы государственности, страна становилась полем боя гражданских войн и интервенций, несла колоссальные человеческие жертвы, теряла огромные территории, отбрасывалась на десятки лет назад в экономическом развитии. Когда Россия неизмеримо ослабевала, вставал вопрос о выживании ее как государства и нации. Именно в феврале-марте 1917 года было положено начало лавинообразной общественной дезинтеграции. Понимание природы революций, осознание того, что и почему произошло в 1917 году, – ключ к пониманию российских Крушений. А значит, и к их предотвращению.
Книга предназначена широкому кругу читателей.
В России появлялся двухпалатный парламент. Нижняя палата – Государственная дума учреждалась для «обсуждения законодательных предположений, восходящих к Верховной Самодержавной власти по силе Основных Государственных законов» и избиралась населением сроком на пять лет. Избирательное право было настоящим, хотя оно и не было всеобщим. Так, женщины не голосовали, но в начале ХХ века они не голосовали даже в самых развитых демократиях. Не было ни одной группы населения, которая принципиально лишалась бы права голоса. В городах это право было близким ко всеобщему, так как голосовать могли все, кто снял жилье на собственное имя в пределах городской черты. Выборы в Думу были не прямыми: депутаты избирались на губернских собраниях выборщиков, представлявших четыре отдельных курии – землевладельцев, городских жителей, крестьян и рабочих, – при этом землевладельцы пользовались явным преимуществом, а крестьяне были недопредставлены. Это являлось легко закамуфлированной формой применения имущественного ценза, что тоже было не новостью в тогдашней демократической практике. Среди выборщиков в Первую Думу выборщики от землевладельческой курии составляли 31 %, от крестьянской – 42 %. Выборы были тайными и действительно свободными, коль скоро вмешательство власти в избирательный процесс если и было, то «бесспорно гораздо более пассивно, чем обыкновенно бывает в западных демократических странах»[221].
Государственный совет из законосовещательного органа при императоре превращался в достаточно полноценную верхнюю палату парламента. Предусматривалось, что подведомственные ему законодательные и большинство финансовых дел предварительно рассматриваются нижней палатой, которые Госсовет мог отклонять. Обладал он и фактическим правом законодательной инициативы. Царь ежегодно назначал председателя и вице-председателя Госсовета, а также половину его членов – 98 человек. Другая половина была выбиралась «высшими классами» и включала представителей от духовенства, Академии наук и университетов, земских собраний, дворянских обществ, торговли и промышленности (56 человек – от территорий, 42 – от курий) Каждое губернское земское собрание выбирало одного члена Совета, в губерниях, не имевших земств, избирательными коллегиями выступали съезды землевладельцев. 12 мест закреплялось за Польшей. Оговаривалось и представительство от Финляндии, которым она, однако, по причинам, о которых я скажу позднее, не спешила пользоваться. По своему правовому статусу члены Государственного совета, назначенные императором, являлись не народными представителями, как их коллеги по избранию или депутаты Госдумы, а чиновниками первых трех классов Табели о рангах, которым были запрещены занятия частным бизнесом. Выборные члены обеих палат пользовались ограниченной неприкосновенностью. Для лишения их свободы требовалось согласие соответствующей палаты или задержание на месте преступления[222].
Россия перестала быть абсолютной монархией, главный родовой признак которой заключается в недифференцированнности законодательной и исполнительной власти, сосредоточенной в одних руках. Согласно Основным законам, император уже не мог законодательствовать помимо Госдумы и Госсовета. Исключение из этого правила составляло чрезвычайно-указное законодательство «в порядке 87-й статьи», но и в этом случае требовалось последующее утверждение представительным органом. Высшая исполнительная власть осуществлялась царем и Советом министров. Причем император должен был действовать «согласно закону». «Власть исполнительная, особенно в среднем и низшем звеньях управления, во всем объеме монарху не принадлежала, действовали органы самоуправления, земства, городские думы. Уже тогда сказывалась и сила «четвертой власти» в лице оппозиционной прессы, влиявшей на управленческие структуры подчас сильнее Императора»[223]. На самом деле утверждать, будто разделение властей было фикцией и все решения все равно принимались в одном кабинете, как часто делается, оснований не было. Вот как описывал свои будни, начиная с открытия заседаний Третьей Думы (1907 год) Владимир Коковцов: «С этого дня в течение длинных шести лет вся моя работа по должности министра финансов, а потом, с сентября 1911 года, и в должности председателя Совета министров протекала неразрывно в связи с Государственной думой сначала третьего, а потом и четвертого созыва, и, можно сказать, что мой 14-часовой труд в сутки столько же протекал на трибуне Думы, сколько и в кабинете министра финансов на Мойке»[224].
Дума и Госсовет не формировали правительство, и на этом основании многие критики режима говорили о сохранении самодержавия. Столетие назад конституционные монархии делились на парламентарные, в которых исполнительные органы действительно формировались парламентским большинством, и дуалистические, где исполнительная власть сохранялась за монархом и назначаемым им правительством, которое могло оставаться у власти и не пользуясь поддержкой парламента, а законодательная власть принадлежала монарху и избираемому парламенту. Такого было, например, государственное устройство Пруссии, считавшейся образцовой дуалистической монархией, и «эволюция высшей исполнительной власти в России осуществлялась по прусскому пути»[225]. Для меня нет сомнений, что по Основным законам 1906 года Российская империя юридически и политологически может быть квалифицирована как конституционная дуалистическая монархия.
Отрицать это можно с таким же основанием, с каким называть самодержавной действующую российскую Конституцию 1993 года. Еще во время обсуждения ее проекта я обращал внимание на ее сходство и с конституцией Германской империи, и конституцией Николая II[226]. Сейчас эта точка зрения достаточно распространена. «Сегодня, если мы сравним современную Конституцию России с «Основными законами» 1906 г., то увидим их поразительную схожесть. В основе и того, и другого документа стоит идея сильной централизованной власти, которая, в условиях отсутствия развитого гражданского общества и демократических традиций, является для многих панацеей от политического развала, сепаратизма, экономического коллапса и внешнеполитической дискриминации России»[227]. Нынешнюю Конституцию я бы тоже не отнес к высшим образцам либеральной мысли, но она точно не является абсолютистско-самодержавной, как и ее предшественница 1906 года.
А как же быть с мнением авторитетных классиков? Увы, вынужден здесь разделить слова известного эмигрантского историка российского либерализма Леонтовича: «Утверждения, будто российская конституция 23 апреля 1906 года – лжеконституция, не имеют просто никакой научной ценности, а представляют собой лишь выражение определенных политических тенденций…»[228]. Для правых охранителей было существенно подтвердить незыблемость власти императора и после принятия Основных законов. Большевикам и либералам-кадетам было важно обосновать свою борьбу с антинародным режимом, оправдать разрушение российской государственности в 1917 году. А как же Вебер? Петербургский историк Борис Миронов объяснял его мнение тем, что он наслушался «своих друзей кадетов»[229]. Полагаю, был и другой фактор: с чего бы Веберу должен был нравиться политический строй не вполне дружественного государства, главу которого он откровенно ненавидел? Хотя, замечу, и Вебер признавал, что новый порядок организации власти означал определенный прогресс: «исчезновение последних элементов самодержавия в старом смысле и установление власти модернизированной бюрократии»[230].
А среди кадетов уже после 1917 года найдутся люди, которые отдадут должное тому конституционному строю, против которого так страстно боролись. Василий Маклаков, главный эксперт партии по правовым вопросам, напишет: «Те, кто пережил это время, видели, как конституция стала воспитывать и власть, и самое общество. Можно только дивиться успеху, если вспомнить, что конституция просуществовала нормально всего восемь лет (войну нельзя относить к нормальному времени). За этот восьмилетний период Россия стала экономически подниматься, общество политически образовываться. Появились бюрократы новой формации, понявшие пользу сотрудничества с Государственной Думой, и наши политики научились делать общее дело с правительством»[231].
Но революционный взрыв 1905 года имел следствием не только торжество конституционализма. Он привел к комплексному расшатыванию основ государственности. Либеральный князь Сергей Трубецкой, ставший в 1905 году первым избранным ректором Московского университета, признавал: «Революция разрушает гипноз власти в двух направлениях: она подрывает его в душах тех, кто должен повиноваться, и в тех, кто должен приказывать»[232].
Правительство
В самом начале ХХ века в России не существовало ни кабинета министров в современном понимании, ни премьера, ни единой правительственной политики, хотя первые в нашей истории восемь министерств были образованы еще в 1802 году. Созданный при Александре II и работавший в 1857–1882 годах Совет министров был совещательным учреждением, в котором право принимать решения по рассматриваемым вопросам принадлежало исключительно императору, а постановления Совета оформлялись «высочайшими повелениями». Поста главы правительства не было в природе: руководитель каждого министерства отчитывался лично перед императором и только от него получал указания.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Крушение России. 1917"
Книги похожие на "Крушение России. 1917" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вячеслав Никонов - Крушение России. 1917"
Отзывы читателей о книге "Крушение России. 1917", комментарии и мнения людей о произведении.