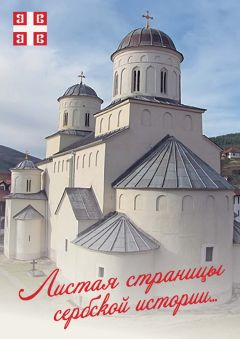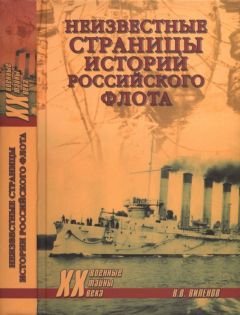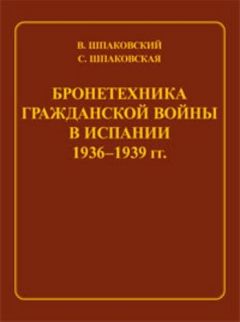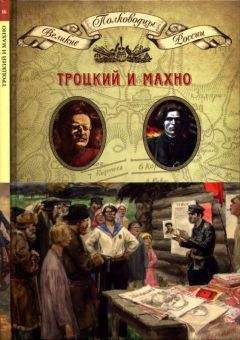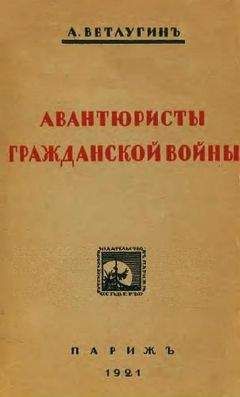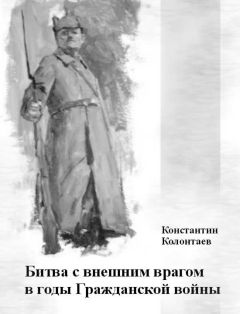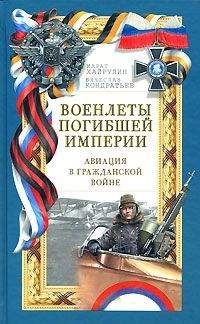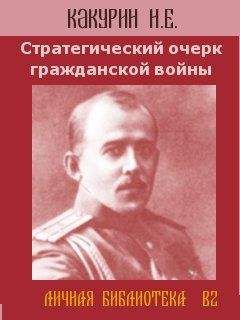Сергей Яров - Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"
Описание и краткое содержание "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны" читать бесплатно онлайн.
Настоящая книга очерков истории Петрограда в годы Гражданской войны, не сгущая краски, показывает трудности и теневые стороны жизни, не пренебрегая тем положительным, что уже отражено в исторической литературе, но и не избегая тяжелых и мрачных явления быта и повседневных тягот горожан, которым довелось прожить несколько лет на переломе эпох. Старый дореволюционный порядок с его уже ставшими привычными устоями жизни сменился резким скачком к неизведанному будущему, ставшим тяжелым испытанием для бывшей столицы Российской империи…
Изучение истории Петрограда эпохи Гражданской войны вплоть до настоящего времени все еще остается далеким от завершения. Замысел авторов – максимально правдиво рассказать читателям о жизни города и его жителей на непростом этапе перемен.
В то же время на властном, да и на бытовом уровне отношение к научной и творческой интеллигенции было не лучше, чем к «буржуям» – данный термин трактовался большевистской пропагандой весьма вольно и, как правило, расширительно и часто распространялся на людей, не имеющих никакого отношения к буржуазии как таковой. В «буржуи» можно было попасть не только за политические убеждения, но и даже за внешний вид и манеру изъясняться. Ученые, вузовские преподаватели неоднократно становились жертвами «красного террора», некоторые из них, в частности, были арестованы в качестве заложников. Именно тогда был в первый раз был арестован видный историк С.Ф. Платонов, занимавший в то время пост директора Археологического института[262]. Материальные бедствия ученых усугублялись, таким образом, моральным давлением. Не лучше было положение студентов. Их общее число резко сократилось: многие, бросив учебу, перешли на службу в советские учреждения, ушли в армию или уехали из города. В институтах оставалось по две-три сотни студентов. Занятия в холодное время года часто проходили в нетопленых кабинетах и лабораториях. В сентябре 1918 г. правление Российской Академии наук направило прошение в адрес Народного Комиссариата просвещения, в котором, в частности, говорилось: «В последнее время положение их (ученых. – В. М.) сделалось совершенно невыносимым: эти люди поставлены в наихудшие условия относительно питания, всевозможные случайности берут у них драгоценное время, так как их то арестуют, то привлекают к трудовой повинности, их квартиры не свободны от всевозможных случайных вторжений, их библиотеки – от разгрома и конфискации. В такой атмосфере невозможен умственный производительный труд, в котором нуждается Россия…» В прошении перечислялись меры, которые могли спасти русскую науку: «1) Прекращение похода против людей умственного труда и охрана властью их безопасности и свободы, их умственного труда от добавочной трудовой повинности. 2) Обезопасение их жилищ и рабочей обстановки от всевозможных случайных вторжений. 3) Принятие срочных мер для обеспечения лучшего питания переводом работников умственного труда в высшие категории…»[263] Несмотря на все трудности, многие ученые и в этих невыносимых условиях продолжали свой поистине героический труд, так как в этом был смысл их существования.
Когда в партийном и советском руководстве осознали, наконец, что дезорганизация работы научных и учебных учреждений может обернуться огромным ущербом для государства, ученым начали оказывать государственную помощь. 23 декабря 1919 г. СНК принял декрет «Об улучшении положения научных специалистов», в котором содержались положения о предоставлении продовольственных пайков, улучшении их жилищных условий, освобождении от различных повинностей[264]. С февраля 1920 г. ученые и преподаватели стали получать академический паек, распределением которого в Петрограде ведала Петроградская комиссия по улучшению быта ученых[265]. Но даже и теперь материальное положение многих ученых и учебных заведений было далеко не блестящим. Вот, к примеру, выдержки из письма, направленного в Петросовет руководством Петроградского университета в ноябре 1921 г., когда, казалось бы, мероприятия новой экономической политики уже начинали давать эффект и материальное положение в городе уже не было таким бедственным: «Совет Петроградского государственного университета, выслушав сообщение Правления о финансовом положении университета, давно уже не имеющего сколько-нибудь достаточного количества денежных знаков <…> постановил довести до сведения правительственной власти, что это положение вынуждает Университет… приостановить… неотложные строительные и ремонтные работы, в том числе ремонт общежитий студентов, которым буквально негде жить; прекратить даже необходимые закупки и объявить всему персоналу и рабочим, что Университет лишен возможности выплачивать жалованье и заработную плату. Как учебный, так и технический персонал Университета, не получая содержания с июля и при том доселе состоя на старых ставках, которые далеко не покрывают даже расходы на трамвай, не в силах долее исполнять свои обязанности»[266]. О реальном улучшении жизни научной интеллигенции можно говорить лишь применительно к середине 1920-х гг.
Криминогенная ситуация и борьба с преступностью
Революционное преобразование старого строя, как обычно бывает в переломные моменты исторического развития, сопровождалось обострением внутренних противоречий и проблем, которые в периоды общественной стабильности либо существуют в скрытой форме, либо проявляются в гораздо меньшей степени. К числу таких явлений относятся уголовная преступность и другие виды девиантного (отклоняющегося) поведения, которые во времена революций и внутренних конфликтов, в обстановке хаоса, слабости и нестабильности власти, приобретают огромные масштабы. Именно это происходило в 1917-м и в последующие годы в России и, в частности, в ее бывшей столице – Петрограде.
Первые месяцы после февраля 1917 г. в Петрограде ознаменовались невиданным ранее разгулом уголовной преступности, буквально захлестнувшей город. Ухудшение криминогенной обстановки было предопределено всем ходом событий во время и после Февральской революции. Прежняя правоохранительная система была разрушена в дни революции явочным порядком. Восставшие солдаты и толпы народа вымещали свое озлобление против царского режима на его слугах: громили полицейские участки, жгли архивы полиции, отлавливали и убивали городовых, жандармов, агентов сыска. Американский посол Д.Р. Фрэнсис следующим образом описывал события, свидетелем которых он был в февральские дни: «Полицейский участок через три дома от здания посольства (на Фурштатской улице. – В. М.) подвергся разгрому толпы, архивы и документы выбрасывались из окна и публично сжигались на улице – и то же самое происходило во всех полицейских участках города. Архивы секретной полиции, включая отпечатки пальцев, описания примет преступников и т. д., были таким образом полностью уничтожены… Солдаты и вооруженные гражданские лица преследовали полицейских, разыскивая их в домах, на крышах, в больницах»[267].
10 марта 1917 г. Временное правительство санкционировало фактически уже осуществленную ликвидацию департамента полиции, а чуть позже был формально упразднен корпус жандармов. Одновременно были предприняты меры для создания новой правоохранительной системы. 10 марта правительство приняло постановление об учреждении Временного управления по делам общественной полиции по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан (в июне переименовано в Главное управление по делам милиции и по обеспечению личной и имущественной безопасности граждан), а 17 апреля утвердило Временное положение о милиции[268]. Вновь созданная милиция оказалась, однако, неэффективной. Подготовка милиционеров была низкой, вследствие недостаточного финансирования недоставало оружия и обмундирования. Ощущалась нехватка квалифицированных кадров, так как было запрещено принимать на милицейскую службу лиц, служивших ранее в полиции[269]. Должного внимания борьбе против преступности не уделялось: различные политические силы были заняты главным образом выяснением отношений между собой. Не лучшим образом на организации работы органов охраны порядка сказывался сложившийся весной 1917 г. параллелизм: наряду с городской милицией, находившейся в ведении органов городского самоуправления, стала создаваться рабочая милиция, подчинявшаяся Советам рабочих и солдатских депутатов (после июльских событий рабочая милиция была упразднена Временным правительством)[270]. Милицейское руководство не отличалось должной энергией и инициативой. Начальник городской милиции (с лета 1917 г.) Н.В. Иванов, адвокат по специальности, по словам одного из работников милицейского управления, «никаким авторитетом ни у своих подчиненных по управлению, ни у комиссаров, ни у начальства не пользовался. Никогда он не пробовал проявить хотя бы малейшую инициативу в смысле реорганизации, упорядочения милиции, относясь к своим обязанностям совершенно по-казенному»[271].
В обстановке усиливавшегося разброда и хаоса преступные элементы чувствовали себя все более вольготно. Отсутствие контроля при раздаче оружия гражданским лицам привело к тому, что на руках у населения скопилось огромное количество единиц огнестрельного оружия. Уголовное население города росло. По амнистии Временного правительства на свободу вышло большое количество отпетых уголовников (их называли «птенцами Керенского»). Газета «Петроградский листок» констатировала: «То, что Петроград сегодня обокран и разграблен, не должно удивлять нас, поскольку из различных тюрем было выпущено около 20 тысяч воров. Грабители получили полные гражданские права и свободно ходят по улицам Петрограда. Офицеры уголовной милиции подчас узнают воров на улице, но ничего не могут сделать»[272]. 7 марта помощник градоначальника издал предписание комиссарам районов регистрировать освободившихся уголовных заключенных, являющихся в комиссариаты, и «выдавать им удостоверения, подтверждающие их явку и обязывающие их явиться в места, которые будут указаны особым объявлением Петроградского общественного градоначальника, в трехдневный срок по издании этого объявления»[273]. Особого эффекта это предписание не имело, так как бывшие заключенные, естественно, не спешили являться в комиссариаты и регистрироваться.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"
Книги похожие на "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Яров - Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны"
Отзывы читателей о книге "Петроград на переломе эпох. Город и его жители в годы революции и Гражданской войны", комментарии и мнения людей о произведении.