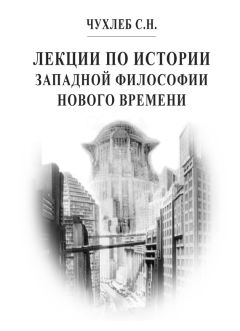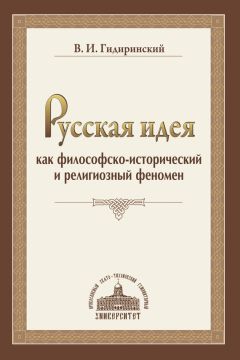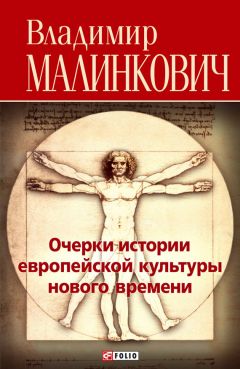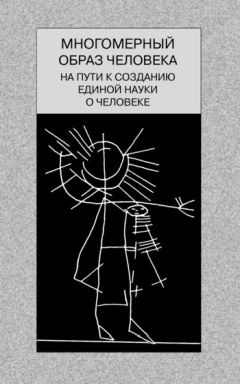Игорь Орлов - «Человек исторический» в системе гуманитарного знания
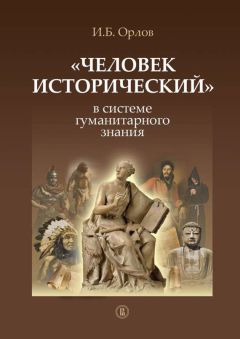
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания"
Описание и краткое содержание "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания" читать бесплатно онлайн.
«Собирание» человека в его целостности обусловило не только общую антропологизацию направлений современной гуманитаристики, но и стремление к междисциплинарному диалогу, охватившее гуманитарные и социальные науки. Прежде всего речь идет о так называемой «новой исторической науке», многочисленные направления которой («новая культурная», «новая социальная», «новая локальная» и другие истории) привлекают (пусть и в разной степени) методологический инструментарий философии и антропологии, социологии и психологии. Все вышесказанное актуализирует задачу реконструкции философских и антропологических оснований современного исторического знания, все больше трансформирующегося в сторону рассмотрения истории как процесса становления человека в единстве его биосоциальной и духовной природы. Этим и другим проблемам «нового социогуманитарного синтеза» посвящена данная книга.
Для историков, философов, антропологов и всех интересующихся проблемами исторического знания.
• акцент на осмыслении исторического процесса с учетом многообразия культурно-исторических факторов;
• междисциплинарность;
• выход на первый план истории повседневности, ментальностей, привычек и микроистории;
• уверенность в «непрозрачности» социальной реальности, определяющая методологию предпочтения косвенных свидетельств и массовых источников, не содержащих осознанного представления о действительности.
Особенности «импорта» из одной научной дисциплины в другую чаще всего объясняются внутренней ситуацией «импортера». То есть историки читали Э. Дюркгейма, М. Мосса, М. Фуко, П. Бурдье и К. Гирца по собственным правилам: чаще всего привлекали местный этнографический материал ради восполнения пробелов в наличных источниках или сравнения, значительно реже – заимствовали концептуальный аппарат. Другими словами, начальный этап в развитии исторической антропологии определяло заимствование из других гуманитарных наук.
Затем в процессе историзации антропология превращалась либо в историю ментальностей, либо в качественные исследования особых случаев (case studies) и истории малых сообществ, сделанные по принципу гирцевского «плотного описания» с особым вниманием к «символизму повседневной жизни». Представители первого направления, отождествляемого с французской «новой исторической наукой», изучали структурные феномены большой длительности, в то время как апологеты второго («одного из направлений социальной истории») превратили историческую антропологию в «индивидуализирующую» микроисторию. При этом историки обоих течений были ориентированы на междисциплинарный синтез, заняты созданием «образа другого» и сконцентрированы на изучении «символики повседневной жизни».
В силу этого спектр определений современной исторической антропологии весьма широк – от «тотальной» истории французского историка Эммануэля Ле Руа Ладюри (р. 1929) до микроисторических сюжетов, от истории ментальностей до оценок роли личности в истории. Одна из причин такого терминологического разброса, как уже указывалось, – наличие двух ведущих «программ» исторической антропологии. Например, британский историк Питер Берк (р. 1937) свел историческую антропологию к определенному подходу к прошлому, получившему развитие в сотрудничестве историков и антропологов [Burke, 1996. P. 49]. Немецкий историк Ханс Медик охарактеризовал историческую антропологию как «открытое поле исследований и обсуждений», формирующееся между историческими дисциплинами, антропологией и этнологией [Medick, 1996. P. 62]. Так, в ФРГ можно выделить, по крайней мере, три направления внутри исторической антропологии: историческую социальную антропологию, исследующую социализацию человека (Ю. Мартин); этнологическую социальную историю, изучающую культуру и образ жизни людей (Х. Медик); исторические исследования поведения (А. Ничке). Последнее направление изучает изменчивость человеческого поведения во времени, рассматривая человека как некую замкнутую систему, которая преодолевает свою нестабильность в обществе, образуя временнóе и пространственное единство с окружающим миром. В силу того, что исторические изменения понимаются как изменения в конфигурации мира, человек как ее часть не только отражает в своем поведении ее особенности, но и несет на себе отпечаток всех остальных частей конфигурации [Ким, 1994а. С. 99, 109].
На открытость исторической антропологии указывал А.Я. Гуревич, подчеркивая, что «это не замкнутая школа <…> и это не какой-то метод, который претендует быть универсальным»: она выражает «сущность новой парадигмы, новой ориентации всего гуманитарного исследования, не только исторического, но и в области искусствознания, социологии, в самых различных социальных науках» [Гуревич, 2000. С. 137]. Несомненно, открытость исследовательского поля можно считать важным преимуществом исторической антропологии (см. рис. 2.1).
Рис. 2.1. Междисциплинарность исторической антропологии
Историческая антропология стала важнейшим гуманитарным поворотом в научном познании, в результате которого наука обратилась к человеку, через деятельность которого осуществляется исторический процесс. Постепенно антропологизм как признание, что в центре исторического процесса находится человек, стал аксиомой любого научного исследования [Юрганов, 2001. C. 39]. Хотя это несколько упрощенное представление об антропологически ориентированной истории, в центре которой – не абстрактный человек в истории, а конкретные индивиды и сообщества и их жизненные стратегии в конкретных обстоятельствах. В свою очередь, предметное поле исторической антропологии составил образ прошлого, который «в результате наших настойчивых усилий создается из дошедших до нас посланий исторических источников» [Гуревич, 1996б. С. 85].
Во Франции, где доминировала история «большой длительности» Фернана Броделя (1902–1985), в 1960-е годы под влиянием социальной антропологии и этнологии, прежде всего структурализма К. Леви-Стросса, французские историки обратились к изучению истории ментальностей. А с начала 1970-х годов стараниями французского историка Жоржа Дюби (1919–1996) получило распространение понятие «историческая антропология»[35]. Аналогичные процессы шли в исторической науке Великобритании, где ведущую роль в переориентации исследований на изучение массового сознания и поведения сыграли британские историки-марксисты Эдвард Томпсон (1914– 1994), Эрик Хобсбаум (р. 1917) и другие, группировавшиеся вокруг журнала «Past and Present». Правда в Англии инициатива исходила не из среды историков, а от антропологов. Кроме того, в Великобритании история ментальностей не получила развития, что облегчило и ускорило становление исторической антропологии.
Поиск путей обновления социальной истории, во многом под влиянием французской школы «Анналов», определил поворот германских историков в сторону исторической антропологии еще в середине 1960-х годов. При этом в Германии сложились две формы исторической антропологии, одна из которых более связана с культурной антропологией, а другая уходит корнями в философскую антропологию. Предложенная Томасом Ниппердаем (1927–1992) исследовательская программа включала изучение морального поведения, семьи, процесса воспитания и т.п. Сходное понимание задач исторической антропологии обнаружил немецкий социолог и политолог Вольф Лепениес (р. 1941), назвавший одной из центральных тем изучение «исторической изменчивости форм поведения». В 1970-е годы в Германии сложилось сразу три исследовательских центра (Институт исторической антропологии в Фрайбурге, Отделение «исторического исследования поведения» при Штутгартском университете и группа сторонников исторической антропологии в Геттингенском институте). Наиболее амбициозной была программа фрайбургской группы, поставившей целью изучение «истории человека в его целостности». В США в этом русле развивалось творчество Натали Дэвис (р. 1928), а в России данную тенденцию с 1997 г. выражает альманах «Казус». Становлению исторической антропологии в России немало способствовало проведение в конце 1990-х – начале 2000-х годов ряда тематических конференций и включение ее в образовательный процесс в РГГУ [Кром, 2004а. С. 10–11, 18–19, 30–32, 35–37]. Возникшее в отечественной исторической науке еще в 1970-е годы новое направление – историческая антропология, – представленное по преимуществу историками-медиевистами (А.Я. Гуревич, Ю.Л. Бессмертный, Г.С. Кнабе), сформировало собственные подходы к изучению менталитета в отечественной истории, выделив в качестве важнейшей категории «социально и культурно мотивированное поведение людей».
В целом антропологизация истории совпала с историографическим поворотом от анализа структур к изучению мотивов и стратегий поведения людей и расширением междисциплинарного диалога историков с представителями других наук, и прежде всего антропологии. Диалог с антропологами позволил историкам существенно расширить проблематику исследований за счет таких тем, как отношение людей к жизни и смерти и возрастным периодам, народная религиозность и взаимодействие различных уровней культуры, праздники и будни, ритуалы и проч. При этом, как указывалось выше, поворот ряда историков школы «Анналов» в сторону исторической антропологии шел через интерес к истории ментальностей, которая в 1960–1970-е годы стала лидирующим направлением во французской историографии, проникнув, благодаря Роберу Мандру (1921–1984), в историю религии и культуры. Параллельно шла трансформация демографической истории – от изучения статистики к исследованию субъективной стороны демографических процессов (отношению людей к жизни, смерти, детству и проч.).
После определенного падения интереса к исторической антропологии во Франции в 1990-е годы и, наоборот, расширения проблематики исследований в Германии, Италии, Испании и России сегодня под влиянием «культурологического поворота» вектор развития сместился в сторону культурной истории. К примеру, на рубеже XX– XXI столетия в Германии в качестве замены исторической антропологии предложена новая «историческая наука о культуре» («культурная история повседневности»). К антропологически ориентированной истории можно отнести и «новую культурную историю» в США [Кром, 2004а. С. 20, 23, 27, 29, 72–73, 90, 138]. Если до последнего времени историческая антропология оставляла за кадром проблему самоидентификации личности, личного интереса, индивидуального выбора и инициативы, то сегодня востребован анализ индивидуального сознания, опыта и деятельности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания"
Книги похожие на "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Орлов - «Человек исторический» в системе гуманитарного знания"
Отзывы читателей о книге "«Человек исторический» в системе гуманитарного знания", комментарии и мнения людей о произведении.