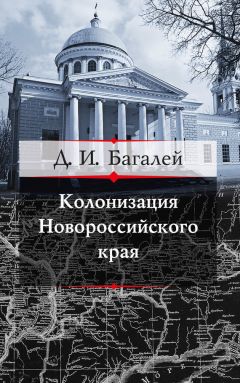Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры
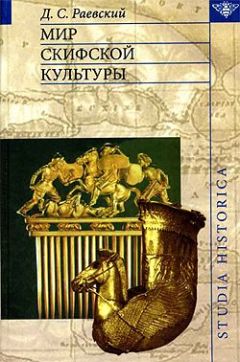
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Мир скифской культуры"
Описание и краткое содержание "Мир скифской культуры" читать бесплатно онлайн.
На основе изучения изобразительных памятников и сюжетов скифского фольклора, сохраненных античными авторами, в работе исследуются представления о мироздании, присущие скифским племенам Северного Причерноморья I тысячелетия до н.э. В результате мировосприятие скифов реконструируется как живая и целостная система.
В томе представлены две главные монографии автора – «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (1977) и «Модель мира скифской культуры» (1985) – с авторскими редакционными поправками.
Книга предназначена как для специалистов в области скифской и античной культуры, археологии и мифологии, так и для широкого читателя, интересующегося прошлым России и научными методами его воссоздания.
В оформлении переплета использовано: на первом плане – скифский ритон в виде лошади из кургана у хутора Уляп (IV в. до н.э.), на втором плане – гребень из кургана Солоха (IV в. до н.э.).
Сопоставление сущности испытания, описанного в версии Г-I, с тем, которое составляет сюжетное ядро версии Г-II, выявляет интересные различия между ними. В версии Г-I три священных атрибута соответствуют трем социальным категориям, а принадлежность каждого из братьев к одной из этих категорий подразумевается. Цель испытания состоит в том, чтобы определить, какой из этих социальных групп принадлежит главенство в обществе, но само испытание лишено «профессиональной» окраски. В версии Г-II мы видим обратную расстановку акцентов. Здесь испытание явно призвано выявить, кто из братьев является носителем военной функции, само главенство которой над двумя другими как бы признается а priori. Таким образом, версия Г-II скифской легенды, повествующая о происхождении скифских царей от того из братьев, который в испытании доказал свою принадлежность к воинам, служит прямым опровержением тезиса Ж. Дюмезиля о скифских царях как представителях жреческой функции и подтверждает схему, отстаиваемую Э. А. Грантовским. Персонаж, доказавший, что он принадлежит к сословию воинов, получает право на престол и, как приложение к нему, жреческий атрибут – чашу и право на отправление жреческих функций. Сам характер испытания, таким образом, прямо отражает связь его с социальной стратификацией скифского общества и показывает, что оно не имеет никакого отношения к взаимоотношениям скифов с гелонами и агафирсами, которые появились здесь лишь в ходе эллинизации легенды.
При анализе изображения на гаймановском сосуде я отмечал наличие в этой композиции двух самостоятельных предметов, служащих для разделения двух частей фриза и обрамляющих центральную сцену, – горита с луком и бурдюка. Представляется, что функционально эти предметы соответствуют священным атрибутам, фигурирующим в рассматриваемой версии легенды. Лук представлен и в рассказе Геродота, и в изображении. Что касается второго предмета, то совершенно очевидно, что чаша выступает в роли жреческого атрибута вследствие той роли, которую она призвана играть при ритуальных, жертвенных возлияниях. В этом смысле бурдюк с вином, выступающим в качестве священного напитка (что подтверждается действием одного из слуг на гаймановской композиции), функционально тождествен чаше. Таким образом, два предмета, изображенные на сосуде из Гаймановой могилы и обрамляющие центральную сцену, в полном соответствии с содержанием легенды отражают двойную функцию царя – военную и сакральную. При таком толковании становится понятным включение их в композицию на правах самостоятельных элементов как выражающих символизм воплощенного в изображении сюжета. Показательно, что в упомянутой выше традиции, сохранившейся в валлийском обычном праве и демонстрирующей значительную близость к символике скифской легенды, наряду с топором и сошником, которые соответствуют скифским секире и плугу с ярмом, фигурирует котел, замещающий скифскую чашу. Такая замена подтверждает предположение, что функциональной особенностью предмета, которая превращает его в определенный символ, в данном случае является его роль емкости для какой-то жидкости. Чаша, котел и бурдюк в этом смысле – предметы тождественные и взаимозаменяемые.
Итак, этиологическое содержание последнего горизонта легенды в версии Г-II состоит в утверждении идеи примата военной аристократии в сословно-кастовой структуре скифского общества и в обосновании того, что принадлежащие к этой социальной категории цари объединяют в своем лице военные и жреческие функции.
Выше было отмечено, что одна и та же модель может реализоваться в различных сферах социально-политической организации, т. е. к одному и тому же мифологическому прецеденту могут возводиться различные общественные институты. Поэтому следует оговориться, что тот смысл версии Г-II, который выявлен здесь на основании анализа рассказа Геродота и изображений на ее сюжет, не обязательно должен рассматриваться как единственно возможный. Ниже я постараюсь обосновать и иное толкование этой версии легенды.
Перейдем к рассмотрению смысла членения, отраженного в двух оставшихся версиях легенды: ДС и Эп. Начнем с версии ДС. Здесь имеющийся в нашем распоряжении материал значительно более скуден, чем в рассмотренных выше случаях, так как эта версия не содержит никаких данных о символике атрибутов или об облике героев-родоначальников. Мы располагаем лишь названиями «народов», возводимых к двум братьям, – палов и напов. В литературе эта версия привлекала гораздо меньше специального внимания и вслед за самим Диодором воспринималась как этногоническая. Представляется, однако, что этимология представленных здесь названий также свидетельствует о социальном их значении; это позволяет сопоставить версию ДС с точки зрения ее семантики с версия-ми, рассмотренными выше.
В. И. Абаев в свое время указал, что название «палы» может быть возведено к скифскому bala – «военная сила, дружина» [1949: 160]. Что касается названия «напы», то в нем, как представляется, отражено авест. nāfa, ср.-перс. nāp – «пуповина», а также «сородичи, община» [54]. Таким образом, деление скифов на палов и напов являет полное типологическое тождество с членением древнеиндийского общества на кшатриев и вайшьев, так как название последних также возводится к vis – «община». При этом показательно, что некоторые источники, отражающие индийскую традицию, также фиксируют деление общества именно на эти две варны без упоминания брахманов [см. об этом: Бонгард-Левин, Ильин 1969: 167]. Аналогичную ситуацию мы находим в авестийской традиции, знающей наряду с трехчленной сословно-кастовой структурой деление лишь на два социальных слоя: воинов и земледельцев, возводимое к двум братьям – Хушенту и Вегерду [Christensen 1917: 143 – 144; Грантовский 1960: 5] [55]. Вполне допустимо предположить, что именно с почитанием двух братьев-родоначальников, персонажей версии ДС скифской легенды, связано распространение в Скифии изображений греческих Диоскуров [Шульц 1969], которые воспринимались здесь как воплощение местных мифологических героев, подобно тому как изображения Геракла толковались как представляющие Таргитая. Социальный характер деления на палов и напов подтверждается и данными Плиния, который при описании народов Средней Азии (подробнее об этом cм. ниже) упоминает те же «этнонимы» в несколько ином написании, причем фиксирует весьма интересную традицию об их взаимоотношениях: «Там напеи, как говорят, были уничтожены палеями» (Plin., VI, 50). Этот пассаж, как представляется, в несколько искаженном виде отражает отношения господства – подчинения между палами и напами, их взаимную иерархию, и находит многочисленные аналогии в мифоэпической традиции разных индоевропейских народов, также повествующей о сложении сословно-кастовой иерархии и связывающей этот процесс с военным поражением представителей подчиненных групп [Littleton 1966: 70].
Итак, последние горизонты различных версий скифской легенды имеют сходное этиологическое содержание – повествуют о сложении сословно-кастовой структуры общества, но отражают принципиально различные традиции, причем различие сказывается как в числе сословно-кастовых групп (три в версиях Г-I и ВФ, две в версии ДС), так и в употреблении разной социальной номенклатуры. Именно на материале этого терминологического расхождения и различного описания сакрального испытания можно ставить вопрос о принадлежности различных версий легенды разным племенам, вошедшим в состав скифского племенного объединения (о возможности конкретной атрибуции каждой из этих двух традиций см. гл. IV, 1). Что же касается содержания легенды в целом, то оно, как мы видели, во всех версиях отражает единый космологический и космогонический мотив.
Вопрос о параллельном отражении в скифской мифологии дву– и трехчленной социальных структур также должен трактоваться в двух планах: формальном и конкретно-историческом. С формальной точки зрения параллельное существование двух выявленных традиций предстает в следующем виде. Обе социальные модели (и дву– и трехчленная) воспроизводят, как было показано, определенные космологические структуры. Рассматривая сословно-кастовую организацию, отраженную в версиях Г-I (ВФ) и ДС, с точки зрения соотнесенности ее с реконструированной выше космической моделью, мы видим, что различие между этими двумя традициями состоит в отсутствии в версии ДС среднего члена, который на социальном уровне соответствует жречеству, а на космологическом – средней зоне мироздания, персонифицированной в Липоксае, т. е. Горе. Отсутствие именно этого члена находит логичное объяснение, если рассматривать его в свете истории развития древних классификационных систем и связанных с ними древних космологических представлений. А. М. Золотарев [1964] на обширном материале показал, что древнейшие космогонии отражают, во всяком случае в своей основе, дуальную фратриальную организацию родового общества. Этот бинарный классификационный принцип был повсеместно перенесен на понимание всего мироздания. Бинарная структура мыслилась как оппозиция верха и низа, неба и земли, богов и людей и моделировалась в самых различных сферах социального бытия [см.: Иванов 1969]. Однако в дальнейшем классификационные системы усложнялись. Это развитие имело достаточно сложный и разнообразный механизм [о преобразовании бинарных структур в многочленные см., в частности: Иванов 1972]. Нас в данном случае интересует путь трансформации бинарных структур в тернарные. Эта трансформация могла происходить как путем деления одного из членов бинарной оппозиции, так и путем введения среднего члена, играющего роль посредствующего, связующего звена между двумя крайними [Иванов 1972: 214].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Мир скифской культуры"
Книги похожие на "Мир скифской культуры" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры"
Отзывы читателей о книге "Мир скифской культуры", комментарии и мнения людей о произведении.