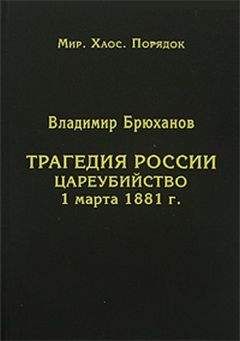Павел Виноградов - Россия на распутье: Историко-публицистические статьи
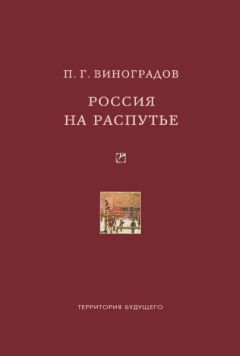
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Россия на распутье: Историко-публицистические статьи"
Описание и краткое содержание "Россия на распутье: Историко-публицистические статьи" читать бесплатно онлайн.
В книге собраны избранные историко-публицистические статьи известного российского историка Павла Гавриловича Виноградова, выходившие в отечественных и зарубежных изданиях в конце XIX – начале XX вв. В них выразилось своеобразное видение исторического прошлого страны и важнейших проблем России того времени. В статьях известного своими либеральными взглядами историка даны оригинальные оценки славянофилов и западников, реформаторской деятельности Александра II и ее последствий, университетского вопроса на рубеже столетий, причин и «предметных уроков» русских революций начала XX в. и гражданской войны. Значительная часть статей переведена с английского и норвежского языков и впервые публикуется на родине всемирно признанного ученого. Книга будет интересна и полезна историкам и политологам, всем, кто интересуется историей России.
Не мудрено, что в такое время распадения и розни внимание невольно обращается к эпохам, когда велика была организующая сила идей. Эта таинственная сила объединяет людей, подсказывает открытия, внушает энтузиазм художнику и самопожертвование гражданину, и ее можно разве только сравнить с теми властными мотивами, от которых зависит стройный лад музыкального произведения: благодаря им хаос звуков обращается в привлекательное и живое целое. И если мы, не дожидаясь приговора потомства, уже сами строго судим свое время и свое дело, то великим ободрением для нас, благотворным указанием на лучшее будущее должен служить тот факт, что наше русское общество, в котором мы являемся только временным звеном, в течение одного XIX века пережило по крайней мере две эпохи культурного подъема, разнохарактерные по своим стремлениям и результатам, но тесно связанные друг с другом и одинаково замечательные по объединяющему и организующему влиянию идей. Я разумею сороковые и шестидесятые годы. Всем известно, что эти цифры имеют более, чем хронологическое значение: к сороковым годам причисляются отчасти и тридцатые и начало пятидесятых, к шестидесятым годам по праву принадлежит конец пятидесятых. Тут дело не в цифрах, а в приблизительном обозначении двух исторических моментов, из которых один знаменует образование главных теоретических направлений русской мысли XIX века, а другой – появление нового социального строя русской жизни. Сегодня я желал бы обратить ваше внимание на очень характерное явление первой эпохи – на зарождение так называемой славянофильской школы. Основатели ее, братья Киреевские1 и Хомяков2, являются в то же время весьма характерными представителями всего поколения сороковых годов наравне с знаменитейшими западниками – Станкевичем3, Грановским4, Герценом5 и Белинским6.
Дело идет о сравнительно недавнем прошлом, а между тем имена этих деятелей сияют уже каким-то легендарным блеском. Особенно вызывают удивление духовная самостоятельность и плодотворность этих людей во время строгой правительственной опеки, их гуманное, всестороннее развитие, их могущественное влияние на окружающее общество. Много причин собралось, чтобы возвысить это поколение. Впервые высшее образование, научное и художественное, стало национальным в ту пору – как с Пушкиным7 и Гоголем8 Петровская реформа осуществилась в литературе, так с Грановским и Хомяковым стала на ноги научная и философская мысль в русском обществе. Высшее образование этого времени является уже не случайным украшением нескольких высокопоставленных людей, а результатом жизненного процесса в самом народе, с одной стороны, просветительною силой для народа, с другой. Первая культурная жатва, естественно, отличается особенным обилием и свежестью, и в настроении людей сороковых годов чувствуется какая-то даже наивная радость по поводу нового приобретения. Вспомним, как восторженно описывает Герцен московские кружки сороковых годов. Эти мыслители, жизнь которых была поглощена изучением и обсуждением Гегеля9 и Шеллинга10, Гёте11 и Шекспира12, это общество, для которого лекция Грановского или критическая статья Белинского были главным предметом интереса и разговоров, вносят в свои интеллектуальные занятия опьянение молодости, культурной молодости народа, вступающего наконец в свое умственное совершеннолетие. Надо прибавить, что все-таки были кружки не особенно многочисленные и потому легко поддерживающие общение друг с другом: тем легче было возбудить и разогреть их. Голос с кафедры и слово журналиста раздавались звучнее в небольшом помещении, отведенном для самостоятельной деятельности тогдашнего общества; даже словесные споры и беседы становились важным фактором распространения мыслей. Все деятели были на виду и на счету, не приходилось бороться с подавляющим влиянием массы и с разнообразием занятий и интересов. Наконец нельзя не отметить аристократическую постановку этой культуры – она была по существу дворянская принадлежность людей большею частью досужих и обеспеченных, опиравшихся на фамильную преемственность образования и воспитанности, людей с утонченными вкусами, широкими запросами и значительными средствами. Позднейшая культура «разночинцев» имеет более грубый, ремесленный, но и более деловой характер.
Как бы то ни было, не в умаление заслуг людей сороковых годов указываю я на эти черты, а в объяснение их особенностей. Они выдвинули в нашей истории своего рода гуманизм, литературный и философский, который, не задерживаясь частностями и мелочами, заботился прежде всего об установлении общего миросозерцания. И в этом отношении сделано было так много, что мы до сих пор в значительной степени принуждены считаться с законоположительными взглядами этого времени.
Славянофильство, например, имеет до сих пор убежденных представителей и оказывает влияние далеко за пределы собственной школы, по множеству воззрений, сделавшихся более или менее общим достоянием или усвоенных другими группами, иногда даже противниками. Но для оценки сущности славянофильских построений всегда придется восходить к принципам учения, как они изложены первыми его поборниками. Только при этом условии выясняются обстоятельства, которые дали учению известное направление, а вместе с тем подготовляется почва для оценки как положительных, так и отрицательных сторон его. Я думаю, что в настоящее время можно уже стать на такую «историческую» точку зрения. Она во всяком случае имеет право на существование наряду с партийной защитой и полемическим разбором.
Значение такой постановки задачи должно чувствоваться, как скоро мы спросим себя, что главное в славянофильстве, что составляет его исходную точку? Система сложная и охватывающая все стороны жизни. Не все равно, где мы будем искать конец, чтобы размотать клубок.
Заграничная пресса довольно легкомысленно понимает все дело, как продукт панславянской агитации, русской ненасытности, стремящейся поглотить все славянские племена, чтобы затем поглотить Европу. Самая простая историческая справка показывает, что панславистская тенденция является в славянофильстве далеко не необходимым придатком, что славянский вопрос играл сравнительно скромную роль в теориях славянофилов, несмотря на соблазнительное имя школы, что течение практической жизни выдвигало, конечно, и его, но что как раз в этом отношении можно усмотреть существенные разногласия между ее главными представителями и, например, указать на некоторых украинофилов, всегда открещивавшихся от московского славянофильства и тем не менее проводивших действительно панславистские идеи (Костомаров13). Для русской публики нет, впрочем, особенной надобности настаивать на том, что панславизм и славянофильство совсем не синонимы, а западная публика впала в эту ошибку главным образом потому, что в сущности знает из славянофилов только одного Ивана Сергеевича Аксакова14.
Зато среди русской публики чрезвычайно распространен взгляд, по которому славянофильство есть только слегка замаскированное московофильство. И без сомнения, осуждение петербургского порядка и петербургского периода, искание положительных идеалов в допетровской Руси, оппозиция западным заимствованиям, преклонение перед исконно-народной тысячелетней стихией, создавшей необыкновенно выносливое, сплоченное общество – все эти черты вновь и вновь выдвигались в сочинениях славянофилов. Но, во-первых, идеализация московского строя XVII века такова, что переходит уже в «археологический либерализм», развивает такие понятия о «земле», ее нравственной самостоятельности и вытекающих отсюда юридических условиях и учреждениях, что не может быть и речи о том принесении в жертву всех интересов государственной силе и единству, которое обыкновенно ставится в упрек московскому порядку А главное, является вопрос, отчего именно в таком свете рисуется для славянофилов русская старина? Если бы их доктрина представляла действительно только «ползучее» учение, применяющееся к данной обстановке, рассчитанное на то, чтобы обелить действительность во что бы то ни стало и заглушить порицание совести, то не было бы надобности и уходить в московскую древность и аранжировать ее на довольно фантастический лад – можно было удовольствоваться и петербургским благоустройством.
Для того, чтобы понять К. Аксакова15 и Ю. Самарина16, надо обратиться к Хомякову и Ив [ану] Киреевскому.
А у них мы найдем только сравнительно небольшое число страниц, посвященных политическим темам. Историей ни тот, ни другой не пренебрегали, но интересовались они историей в ее самых общих и, так сказать, философских очертаниях. Даже странные специальные изыскания Хомякова в области средних веков17 имеют в виду никак не равномерное изучение материала, а подготовку доказательства для философски-исторических обобщений. Нельзя также сказать, чтобы исходный пункт был богословский, хотя религиозное мышление играет видную роль и для того, и для другого. Центр тяжести их интересов в установлении нового философского миросозерцания: история и богословие разрабатываются в той степени, как это нужно для проведения идей этого миросозерцания. У Хомякова все получает более определенную и боевую форму, подробности развиты больше, и собственно богословские определения выдвигаются на первый план. У Киреевского лучше видна философская основа, лучше можно оценить положение системы среди других мировоззрений. Довольно трудно решить в отдельных случаях, кто из вожаков направления первый выставил ту или другую мысль – они думали и работали в постоянном общении и перекрестных влияниях друг на друга. Но, кажется, нельзя усомниться в том, что Ив [ан] Вас [ильевич] Киреевский является руководящим философом школы и всего более сделал для указания ее отношения к западной метафизике и быту.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Россия на распутье: Историко-публицистические статьи"
Книги похожие на "Россия на распутье: Историко-публицистические статьи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Павел Виноградов - Россия на распутье: Историко-публицистические статьи"
Отзывы читателей о книге "Россия на распутье: Историко-публицистические статьи", комментарии и мнения людей о произведении.