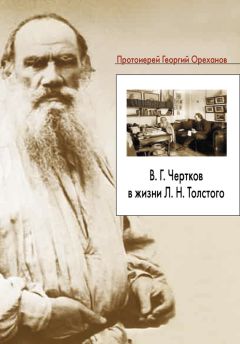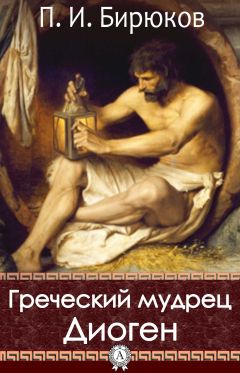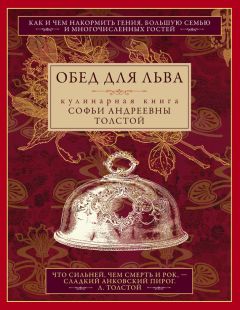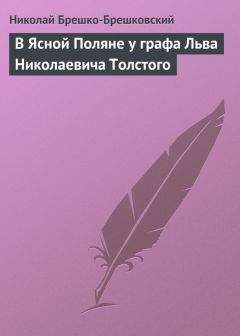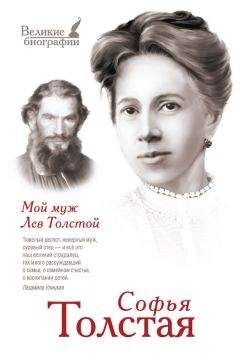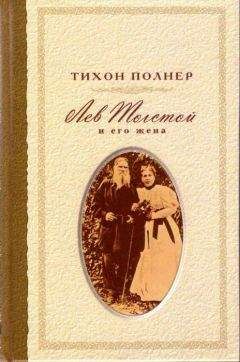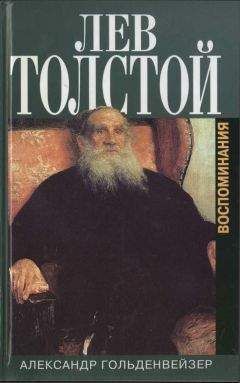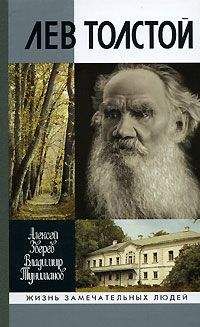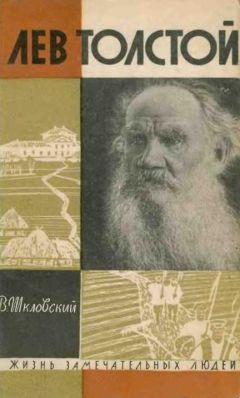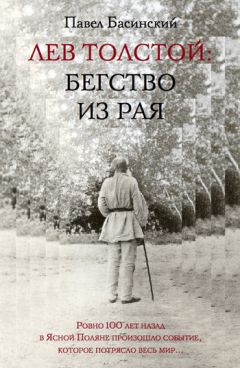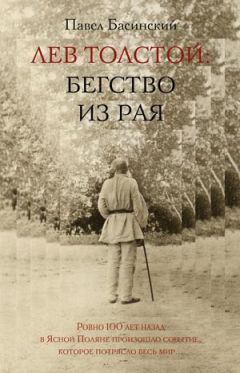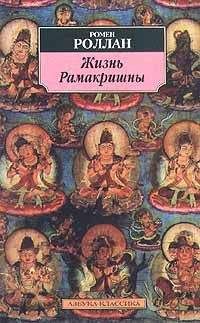Игорь Мардов - Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии
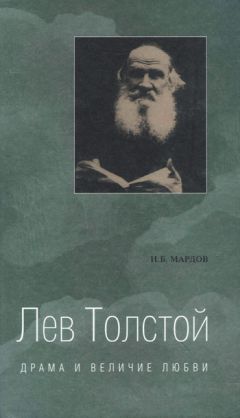
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии"
Описание и краткое содержание "Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии" читать бесплатно онлайн.
Автор – известный исследователь личности и религиозного творчества Льва Толстого. В своей новой книге он предпринимает уникальную попытку взглянуть с метафизической точки зрения на жизненный путь великого писателя, подробно рассматривая его сокровенные умозрения о сущности любви. В последней части книги исследуется личность Марии Александровны Шмидт, которая, по мнению автора, является центральной фигурой метафизической биографии Льва Толстого. Работу отличает стройность и свежесть мысли, многообразие идей и оригинальных подходов. Книга представляет интерес для литературоведов, философов, преподавателей и студентов.
Выход есть только один, указанный нам древней мудростью и подтвержденный христианством: прежде, чем любить ближнего, или для того, чтобы любить ближнего, надо любить Бога всем сердцем и всем помышлением. Только через такую любовь к Богу можно любить ближнего. Всякая любовь к ближнему, корень которой не в любви к Богу: любовь к родным, к друзьям, к приятным людям, благодушие ко всем, вызываемое хорошим расположением духа, часто принимаемое за любовь, не есть та любовь, проявление которой дает смысл и радость жизни. «Если любите любящих вас, то делаете то же, что язычники», т. е. не следуете еще христианскому закону любви, корень которой в любви к Богу и которая вследствие этого не ограничивается близкими и людьми, любящими нас, но распространяется на всех, на чуждых нам людей и особенно вследствие препятствия, которое она должна преодолеть, усиливается, направляясь на враждебных нам людей – любовь к ненавидящим нас и к врагам.
Только любовь к Богу, т. е. любовь к истине, к добру может если не уничтожить, то преодолеть наш эгоизм и привести нас к настоящей любви к ближнему. И любовь эта возникает не сама собой, а достигается усилием.
Прямо, непосредственно любить ближнего настоящей любовью нельзя так же, как нельзя прямо по телефону передать своей речи соседу, а надо обратиться к центральной станции. Точно так же, чтобы истинно любить ближнего, надо обратиться к Богу и из любви к нему, к истине, к добру сделать усилие для того, чтобы любить ближнего» (74.58–59).
4
«Ответить же вам мне хотелось и нужно то, – пишет Толстой в письме 1908 года, – что Вы находитесь, как я думаю, под очень обычным и очень вредным суеверием о том, что влюбленность есть нечто близкое к любви и очень хорошее чувство, тогда как это и дурное и очень вредное, всегда мучительное по своим последствиям чувство. Можно предаваться ему, не признавая никакого религиозно-нравственного закона, но признание законности влюбления и любви как закона жизни несовместимы. Любовь только тогда любовь, когда она самоотверженна, не ищет своего удовольствия» (78.251).
Из письма 1910 года:
«Нельзя соединять внутреннюю, духовную, христианскую деятельность с личными, исключительными привязанностями, особенно привязанностью мужчины к женщине и женщины к мужчине. Такие привязанности всегда переходят в любовь, влюбление, чувство эгоистическое и потому самое противное христианскому идеалу самоотвержения и целомудрия. Такое соединение двух противоположных стремлений приводит всегда к тому, что не только не достигается ни внутреннее совершенствование, ни личное счастье, но является разочарование и в христианском идеале, и возможности личного счастья» (82.114).
Любовь-влюбление, безусловно, не основана на агапическом чувстве жизни и не выражает движения жизни высшей души человека, не являет ее. В полном согласии с будущим учением Льва Николаевича любовь-влюбление во втором романе Толстого сопровождалась несчастием «близких» людей и закончилась катастрофой. Ну а другая любовь, любовь Анны и Каренина, любовь мужа и жены, которая, как оказалось в роковую минуту, была основана на единении их высших душ? Разве такая любовь не есть любовь к определенному человеку? Разве могла она состояться без некоторого рода предпочтения, без избрания (пусть даже не специального, избрания самой жизнью), сближающего двух людей на уровне их высших душ? Пусть в сцене у постели рожающей Анны действуют уже не люди, а «высшие существа», как говорил Достоевский, но каждый из них имел свое лицо и обращался к другому, тоже имеющему определенное и любимое лицо. И Анна, и Каренин, и даже Вронский в минуту эту жили на духовных вершинах своей жизни, жили жизнью своих высших душ. Проявившаеся в них любовь была любовь высшей души, и вместе с тем это была, несомненно, избирательная любовь, исходившая от определенной личности и направленная к определенным личностям. То была избирательная любовь высших душ.
Толстой не утверждает, что истинная любовь – это непременно беспредметная или безличностная любовь. Он говорит, что она должна быть основана не на чувстве жизни животной личности, а на агапическом чувстве жизни. И «только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям – своим и чужим». Хотя, конечно, это все же не любовь к людям, специально избранным для любви. Нельзя сказать, что Толстой окончательно отвергает такую любовь. Как это и ни покажется странным, он не верит в возможность ее осуществления в реалиях земной жизни человека.
«Только если бы люди были боги, как мы воображаем их, только тогда они бы могли любить одних избранных людей; тогда бы только и предпочтение одних другим могло быть истинной любовью. Но люди не боги, а находятся в тех условиях существования, при которых все живые существа всегда живут одни другими, пожирая одни других, и в прямом и в переносном смысле; и человек, как разумное существо, должен знать и видеть это» (26.386). И далее: «В той давке и борьбе животных интересов, которые составляют жизнь мира, человеку невозможно любить избранных, как это воображают люди, не понимающие жизни» (26.387).
Учение Толстого в немалой степени выросло из ужаса перед жизнью людей, ужас этот преодолен им, но он не исчез совсем и продолжает определять жизневоззрение Льва Николаевича. Да ведь и свитость высших душ супругов Карениных объявила о себе на краткое время и как-никак оказалась нежизнеспособной. Так что ж: «высшие существа» в центральной сцене «Анны Карениной» – не более чем плод творческого воображения, не имеющего отношения к процессам в реальной жизни? Такой приговор столь суров, что способен выбить почву из-под ног любого, кто проникся величием происходившего у изголовья умирающей Анны. А как быть с Левиным и Кити, чья глубинная супружеская любовь противопоставлена любви Анны и Вронского и созвучна тем духовным процессам, которые незримо свершились в душах Анны и Каренина, и громко заявила о себе на пороге ее несостоявшейся смерти? И это – воображение, не реальная жизнь? Что ж тогда остается от той «мысли семейной», ради которой и написан роман Льва Толстого?
Пока человек «не поймет жизни и не изменит свое отношение к ней», учил Лев Николаевич, он ничего подлинного в жизни сделать не сможет. «Если бы даже человек, не понимающий жизни, и захотел искренне отдаться деятельности любви, он не будет в состоянии этого сделать…» (26.391) Хотя бы только потому, что перед ним непременно станут «совершенно неразрешимые» вопросы – «во имя какой любви и как действовать?» (26.386).
Для человека, не понимающего жизни, считает Толстой, нет ответа на вопрос законника Христу: «Кто ближний?» То есть: кого любить надо, а кого не надо? Все люди суть создания одного Бога, так что ближний, теоретически говоря, – это человек вообще, ближний по Единому Богу; практически же ближний тот, кто одной с тобой Веры, кто ближний по Вере и Общей душе. На вопрос о ближнем Иисус отвечает притчей о человеке, попавшем в беду и истекающем кровью на дороге; евреи шли, прошли мимо, только самарянин, то есть безусловно «дальний» для иудея, помог ему. И оказался ближним. И поэтому не надо думать, что ближний – это всегда собрат по вере и крови… Смысл притчи, по толстовскому комментарию, в том, что «рассуждение о том, кто мой ближний, – ловушка, отманивающая от истины, и чтобы не попасть в нее, надо не рассуждать, а делать» (24.606).
Для понявшего жизнь человека вопрос «кто ближний?» – соблазн. Вопрос не в том, кого надо и кого не надо любить, а какой любовью любить. Любовь есть жизнь, и какой любовью любишь, такова и жизнь в тебе. Свойственная животной личности пристрастная любовь не подлинная жизнь. Свойственная высшей душе любовь-благоволение, основанная на агапическом чувстве жизни, – жизнь истинная. Истинная любовь – это «то стремление к благу того, что вне человека, которое остается в человеке после отречения от блага животной личности» (26.394). После отречения от блага животной личности остается благо высшей души, благо того, «что есть Бог в тебе». Практически это означает, что истинная любовь – это та любовь, которая образует единство людей на уровне их высших душ. Это может быть как единство двух людей, так и духовное единство неопределенного множества людей.
В отношении заповеди любви к ближнему возникают три взаимосвязанных, но отдельных вопроса: Какой любовью любить? Что значит любить «как себя»? Кто ближний?
Вопрос «Кто ближний?» задан в Евангелии при обсуждении закона любви к ближнему. Прежде чем исполнять данный свыше закон, надо знать, в отношении кого он действует и не действует. По притче этого места Евангелия, ближний не обязательно иудей иудею, ближним может быть и всякий человек. По Толстому, вопрос о ближнем провокационен по своей сути и не должен стоять вообще, так как агапическая жизненность высшей души проявляется в благоволении ко всем. Дело не в том, кто ближний, а какой жизненностью жить и как любить. Если же задать вопрос о ближнем безотносительно к законодательству о любви, то все просто: человек любит той или иной любовью и тот, кого он любит, и есть ближний для него.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии"
Книги похожие на "Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Игорь Мардов - Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии"
Отзывы читателей о книге "Лев Толстой. Драма и величие любви. Опыт метафизической биографии", комментарии и мнения людей о произведении.