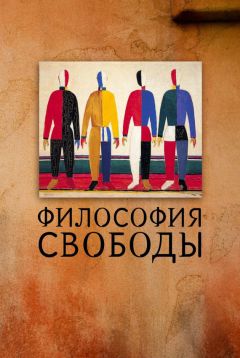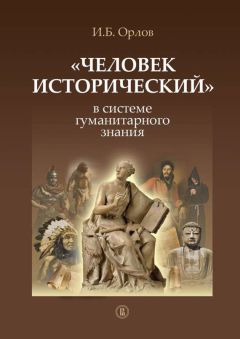Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Описание и краткое содержание "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу" читать бесплатно онлайн.
Цель книги – дать возможность читателю познакомиться с новейшими направлениями российской гуманитарной и философской антропологии, и в этом смысле издание является своеобразным энциклопедическим наброском, введением в антропологическую проблематику ХХ и начала XXI вв. Большая часть материалов, в том числе архивных, публикуется впервые. Концептуальную основу книги составляют идея несостоявшегося диалога двух мыслителей – П.А. Флоренского и Л.С. Выготского и стоящих за ними направлений, а также методологический аппарат антропологических матриц.
Особенностью замысла и построения книги является то, что представленные направления даны не изолированно, но в отношении друг к другу и к ключевым традициям российской антропологии, широко представлены материалы дискуссий.
Книга адресована широкому кругу, в том числе культурологам, психологам, философам, методологам. Особенно актуальна она будет для студентов гуманитарных вузов и тех, кто только начинает свой путь в науке.
С.С. Хоружий. Конечно.
B.П. Зинченко. Сергей Сергеевич, у Гумбольдта отчетливо формулируется энергийная проекция человека.
C.С. Хоружий. Конечно. С Гумбольдтом мы здесь будем очень-очень по соседству, но с очень существенными оговорками.
B.П. Зинченко. Выготский мимо Гумбольдта прошел.
C.С. Хоружий. Я думаю, что, если бы его работа продлилась, он, безусловно, обратился бы к Гумбольдту. Самые последние его разработки – именно лингвистического характера. Если бы он продолжил писать «Мышление и речь», то Гумбольдт там бы возник с необходимостью. Я же сегодня могу и должен сказать, что тогда, семь десятилетий назад, какие-то грани еще не были видны, – и слава Богу, потому что мы к их видению пришли не от хорошей жизни. Пришли к тому, что необходимо различать энергетизм неоплатонический, который целиком уравновешивается присутствием эссенциальных начал (явным или неявным), и энергетизм иного рода, который сущностное начало, как я иногда это выражаю математически, отодвигает на бесконечность, в чистую апофатику. И гумбольдтовский энергетизм, как мне представляется, все-таки еще отвечает неоплатонической программе, как и энергетизм, скажем, Николая Кузанского, который у последнего тоже можно найти.
О.И. Генисаретский. А разве центр не является предельной границей? Где проходит граница нашей родины с Западом? В Москве. Центр как граница и предел. И тогда центр как точка равновесия – это и есть высший предел. Они же это знали.
С.С. Хоружий. Все правильно. Вопрос только в том, что центра нынче нет.
О.И. Генисаретский. Они же тоже знали, что центр – везде.
С.С. Хоружий. Центр может не быть, а граница не может не быть.
О.И. Генисаретский. А вспомните про периферию и центр в Средневековье. Везде и нигде. Это как бы чистейшее соединение апофатики вот с этим централизмом.
С.С. Хоружий. Это существенно для платонических корней. Принципиально из другой эпохи.
О.И. Генисаретский. А здесь не снимается противоречие, вами обозначенное?
С.С. Хоружий. Нет-нет, конечно, ничего не снимается. Те пласты опыта, которые находят концептуальное оформление в другом энергетизме, исходят совсем из другой основы, из опытной констатации, что центр не держится. The center doesn’t hold – цитата, которую я усиленно привожу в полудюжине своих текстов, потому что она необычайно емкая и удобная.
Х.Х. Вы сказали, что эссенциальному принципу остается совсем немного места, что он будет отодвигаться в бесконечность. Как вы отнесетесь к предположению, что вот такой в явном виде неучет эссенциальных парадигматических составляющих просто приводит к тому, что они оказываются не отрефлектированными, т. е. они неустранимы в принципе. И фактически ваш сегодняшний доклад это и демонстрирует. Не придется ли вам, адресуясь к тем традициям, в которых осуществляются те или иные духовные практики, признать, что у них всех катафатически этот самый эссенциальный момент всегда есть, и он всегда признавался?
Юрий Вячеславович Громыко. Это не вопрос, а скорее суждение.
С.С. Хоружий. Я бы сказал, что это суждение с нажимом, форсированное. И, как большинство форсированных суждений, огрубляющее. Во-первых, ни в какой энергийной картине не может предполагаться абсолютное отсутствие сущности. Есть сферы конкретные и обширные, где язык сущностей не только оправдан, но и необходим, и нет никакой целесообразности его менять. Но попросту это не те сферы, где сегодня, говоря пышно, решается судьба человека и мироздания. Это сферы обыденных человеческих стратегий. А все те злоключения эссенциального принципа, которые я описывал, сосредоточиваются в первую очередь в области духовных практик, а затем также и в области специфических экстремальных практик современности. Вне этих областей остаются обширнейшие сферы человеческого существования, которые описывались и будут описываться на эссенциальном языке и для которых описание энергийное было бы чистым изыском, упражнением.
Ю.В. Громыко. Сергей Сергеевич, в связи с тем, что говорил Олег Игоревич, у меня в эту же сторону есть несколько параллельных вопросов, они идут в дистинкции некоторой. Первый момент – когда вы говорили про катастрофичность и необходимость не сглаженных, гармоничных описаний, а, наоборот, описаний с усилением момента катастрофичности. Это момент очень важный. Второй момент – где вы сказали, что, безусловно, энергийность не есть акт. Поскольку реагировать на акт тупо, а нужно реагировать на условия возникновения акта, которые коренятся в этой энергийности. Но вот здесь как раз и возникает, на мой взгляд, самая тонкая грань, которая нас, кажется, возвращает к языку системы совсем с другого конца. Ведь действительно, на это на все как можно посмотреть: энергийность невероятно усиливает процессуальный аспект, характер процессуальности. Хотя с процессуальным аспектом – здесь точно так же необходимо откритиковывать процессуальность, убеждаться, что это не Бергсон. Здесь начинается очень тонкий момент.
С.С. Хоружий. Процессуальность, длительность, непрерывность – весь этот букет категорий, разумеется, должен пересматриваться.
Ю.В. Громыко. Будет пересмотрен. Но вот здесь начинается какой очень интересный момент, в том числе и по поводу духовных практик. Ваше понятие границ и ваши очень интересные работы, где вы дали характеристику духовных практик: восточных, неоплатонических, которым потом противопоставили исихазм. У меня лично вот какое возникло понимание. Критикуя неоплатонизм, сравнивая его с исихазмом, вы совершенно справедливо утверждаете, что здесь берется всего одна сторона, а именно восхождение к божественному через ум, через мышление – в отличие от исихазма, где есть речь о целостности и где обязательно ставится вопрос об элементе общения, что вы очень последовательно описываете. И если сопоставлять неоплатонизм и исихазм, то в одном случае мы как бы выделяем всего одну функцию и способность, а именно мыслительную, тогда как в исихазме ставится задача об обязательном снятии и переработке всех процессов. Но ведь смотрите здесь какой интересный момент просто в самой структуре мысли возникает, что в случае с неоплатонизмом мы все равно как бы движемся. Т. е. нам надо сначала опознать, что здесь речь идет об определенном акте одного типа, который отрывается от коммуникации и связан только с мышлением – я буду такими словами говорить. Об уме, а скажем, не об общении. А в случае с исихазмом получается, что.
С.С. Хоружий. Общение просто играет разную роль, и само общение тоже очень разное.
Ю.В. Громыко. Я согласен. Ведь в этом случае ваша мысль как движется? Вы на самом деле восстанавливаете и прослеживаете структуру актов тоже. Мне просто кажется, что здесь возникает вопрос, который для меня связан с тем, что спрашивал Олег Игоревич. Могут быть два совершенно разных пункта. Первый из них тот, что энергетизм – это есть просто некоторая определенная исследовательская стратегия, которая демонстрирует, что энергийная форма описания может быть выделена как совершенно отдельная и противопоставленная всем другим. И может быть другая стратегия, которая заключается в том, что такой способ описания существует, но после того, как мы его отделили, может ставиться задача показать, как он связан с другими типами описания, причем связан, возможно, совсем не гармоничным образом. И тогда у нас возникает очень странный взгляд в том числе и на системную парадигму. Вы начинаете фактически как бы вводить еще один несхватываемый, не берущийся до этого в системной парадигме тип описания, который, конечно, очень существенно ее всю начнет трансформировать. И вот здесь, собственно, у меня и возникает вопрос: какая исследовательская стратегия вами здесь принимается. Или, может быть, вообще ортогональная тому, что я говорю?
С.С. Хоружий. Нет, отчего же. Я бы в данном случае мог отослать к наличной работе. Вот последняя глава Выготского в «Мышлении и речи». Я бы сказал, что там уже и разворачивается практическая работа в стихии принципиально не актов, а того, что я называю ростками актов. У него это показано на примере анализа вербальности – а именно попросту предъявлено, продемонстрировано наличие богатой стихии, которая является существенно протовербальной, доактовой. И следом за ним надо рассмотреть, как она живет, эта стихия, и какое понятие формы было бы там. Понятие формы было бы абсолютно другое, не гумбольдтианское.
Ю.В. Громыко. Но смотрите, какой момент возникает. Мышление и речь. Есть вопрос об их связи, о том, что они имеют разные корни. Дальше мы можем поставить вопрос о языковом мышлении как совершенно другой единице, которая будет отлична и от мышления в чистом виде, и от речи. Можем начать просматривать, каким образом речевой акт входит в мысль и образует совсем отдельный феномен и каким образом мысль входит в акт общения и речи, образуя совсем другой феномен. Но если я на все это теперь посмотрю, то обращу внимание на то, что проделываю следующий очень интересный ход: я начинаю мыслить структурными синтезами в разного типа процессах. И с этой точки зрения генетические моменты акторных отношений, т. е. когда речь рождается из мысли, когда мысль рождается из речи, действительно будут просто разного типа единицами, которые прослеживаются. Но вот отсюда у меня и возникает вопрос: ростки актов рождаются в материи разных типов, но материи в другом смысле. Как мне представляется, энергийный язык требует дальнейшей работы по усложнению самого понимания актов. Возникает вопрос: надо ли отрывать энергийность или нужно одновременно с развитием энергийного языка – чему мы можем поучиться у вас – одновременно усложнять представление о самих акторных структурах. С другой стороны, я сразу себя ловлю на том, что это в какой-то мере – может быть, даже в очень большой – развитие в неоплатоническом направлении, которое характерно и для отца Павла. Почему? Потому что я как бы начинаю двигаться в достаточно сложной системе, где у меня есть и слой энергийный, и слой усложнения актов и где от простого бинарного различения – речь и мысль – я уже перехожу к сложным структурным единицам, которые все процессуальны, поскольку речевое мышление – это одно, промысленная речь – это другое, и в каждом случае есть своя динамика и своя процессуальность. Здесь, собственно, и возникает вопрос. Есть две разных стратегии. Одна стратегия – это оторвать энергийность и разбираться с ней как с отдельной и принципиально противостоящей – действительно, то, что вы сказали, бесспорно, – вообще европейской парадигме науки, т. е. полностью ее деэссенциализируя. А другая стратегия – это осуществлять сложное параллельное движение: прорабатывая и как бы пытаясь освоить энергийный язык, понимая, что нужно усложнять в том числе и акторные представления.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Книги похожие на "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Отзывы читателей о книге "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу", комментарии и мнения людей о произведении.