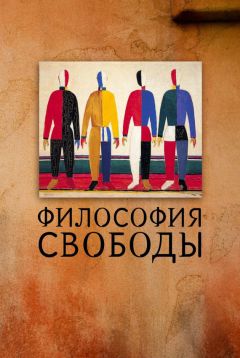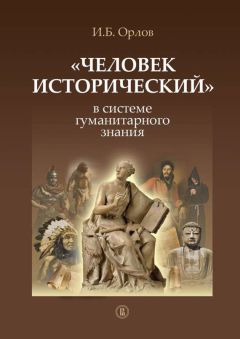Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Описание и краткое содержание "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу" читать бесплатно онлайн.
Цель книги – дать возможность читателю познакомиться с новейшими направлениями российской гуманитарной и философской антропологии, и в этом смысле издание является своеобразным энциклопедическим наброском, введением в антропологическую проблематику ХХ и начала XXI вв. Большая часть материалов, в том числе архивных, публикуется впервые. Концептуальную основу книги составляют идея несостоявшегося диалога двух мыслителей – П.А. Флоренского и Л.С. Выготского и стоящих за ними направлений, а также методологический аппарат антропологических матриц.
Особенностью замысла и построения книги является то, что представленные направления даны не изолированно, но в отношении друг к другу и к ключевым традициям российской антропологии, широко представлены материалы дискуссий.
Книга адресована широкому кругу, в том числе культурологам, психологам, философам, методологам. Особенно актуальна она будет для студентов гуманитарных вузов и тех, кто только начинает свой путь в науке.
Таким образом, в отличие от педагогики желания и удовольствия, личностно-ориентированная педагогика – это педагогика стресса в ситуации личностного роста, педагогика угрозы и глубокого моего личного переживания возможной смерти. Необходимо тысячу раз подумать, а надо ли ребенка вилами тащить в опыт персонализации. Или преждевременное негибкое насильное подсовывание подобного опыта приведет лишь к неврозам и психологическому срыву ребенка. Именно в этой точке нашего рассуждения как нигде правомерны слова Ф.М. Достоевского о том, что «личность должна выделаться», которые с такой мудростью всегда приводил В.В. Давыдов, настаивая на том, что отнюдь не все люди личности, и «жизнь аки трава» иногда счастливее личностных борений.
Но очень часто у педагога нет выбора. Гениальное детское сознание само проскакивает к постановке подобных вопросов и попадает в диссонанс с окружающей массовой культурой. Основная идея, которая навязчиво проводится в современных средствах массовой информации: «Жизнь вечна, наслаждайся жизнью!» Но ребенок уже знает, предчувствует, что он обязательно столкнется с опытом смерти. И он должен быть готов к этому испытанию. А если ребенок не выдерживает открывшегося ему личного опыта, у него может возникнуть склонность к попыткам самоубийства. В его сознании вспыхивает мысль: «Зачем жить, если я все равно когда-нибудь умру?»
Угроза моему «Я» очень остро переживается в ситуации конкурентно организованного учебного коллектива в условиях жесткой агональности его участников. Поскольку детские души бескомпромиссны и поэтому жестоки, то подобная агональность может принимать очень жесткие формы, нацеливаясь на дискредитацию возможностей другого человека. Попадая в условия бескомпромиссной агональной конкуренции, ребенок тоже испытывает угрозу своему «Я».
В подобных условиях, на наш взгляд, не проходит розовая фарисейская педагогика с ее максимами, что «все мы братья (и сестры, конечно)», что «надо уважать личные права и свободы другого», «не надо постоянно о смерти» и т. д. Учащийся понимает это следующим образом: «все мы братья, но после того, как один победит и растопчет других и перейдет к позиции тотального господства»24. Использование деклараций, которые не соответствуют тому, что происходит с учеником и в коллективе, может привести только к возникновению двойной морали. Ученик будет думать, что на самом деле все обстоит так, а педагог все перекрашивает в другие тона, то ли потому, что он врет, то ли потому, что он ничего не понимает. В подобной ситуации необходимо вполне определенное содержание образования, а именно – постановка проблем, решение которых отсутствует в истории, либо перепроверка всех открытий человечества как неразрешенных проблем, с одной стороны, и выделение реальных дефектов своих способностей и сознания, низменных качеств души для того, чтобы сделать их предметом преобразования, с другой стороны. В этой точке учебные задачи по В.В. Давыдову и Д.Б. Эльконину расходятся по своему смыслу и организации.
Учебная задача по В.В. Давыдову в педагогике решений проблем оказывается направленой на внешний мир, на создание объективных средств, отсутствующих в культуре, а учебная задача по Д.Б. Эльконину предполагает преобразование себя, собственных выделенных душевных, моральных и этических изъянов. На этапе формирования учебности как таковой учебная задача по В.В. Давыдову и учебная задача по Д.Б. Эльконину оказывались согласованными для ребенка в значительно большей степени. Для того чтобы освоить общий способ решения целого класса конкретно-практических задач, за которым стоит структура понятия, ребенок должен был наметить задачу преобразования себя. Например, научиться выделять идеальные отношения, которые невозможно представить в виде отношений материальных предметов друг к другу.
Преобразование себя на этом этапе формирования способности мышления более тесно связано с освоением-пониманием того, как устроена единица мышления в виде понятия. Хотя и здесь могут происходить определенные парадоксальные продвижения ребенка. Особенно не задумываясь и не рефлектируя, чего они не могут, дети «проскакивают» в понимании сразу к освоению общего способа, схватывая отношения идеального и выражая их при помощи моделей. Именно в этом случае оказывается справедлива мысль Г.П. Щедровицкого: «…человека, движущегося по содержанию, не надо воспитывать».
В принципе за подобными разными стратегиями решения учебной задачи лежит разное значение и разный уровень развитости способностей понимания25 и рефлексии. Учебная задача по Д.Б. Эльконину требует большей опоры на рефлексивность, а общая задача по В.В. Давыдову – на понимание. Даже при рассмотрении более сложной организации мыследеятельностных функций рефлексии и понимания – рефлексивного понимания и понимающей рефлексии26, при анализе роли рефлексии27 в решении учебной задачи по В.В. Давыдову, все равно рефлективность как таковая в большей степени связана с обнаружением недостатка собственной организации учащегося, а понимание – с прорывом в освоении объективного содержания.
Но при рассмотрении личностно-инициирующей учебной ситуации две эти разные понятийные фокусировки на единую практику освоения и решения учебной задачи расходятся в еще большей мере. И все дело в том, что за двумя этими разными представлениями об учебной задаче лежат два разных образца развития: в одном случае образец святости и опыт монашеской аскетической работы, а в другом – образец художественной и научной гениальности и опыт художника-творца, ученого-творца28: «Не только дело в том, что и святой – подвижник, и поэтический гений, каждый по-своему, служит своему народу и своей культуре, один – искупительным преображением человеческой природы, другой – ее творческой реализацией в разных средах жизни». Эта обобщающая мысль О.И. Генисаретского позволяет выделить своеобразную архетипическую модель устройства русской культуры, и она надстраивается над принципиальными и очень конкретными размышлениями Н.А. Бердяева в его «Философии свободы», которые в своей статье приводит О.И. Генисаретский:
«В начале XIX века жил величайший русский гений – Пушкин и величайший русский святой – Серафим Саровский. Пушкин и св. Серафим жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались… Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, что отняли бы Серафима. Святой творит самого себя, иное, более совершенное в себе бытие. Гений творит великие произведения, совершает великие дела в мире. Лишь творчество самого себя спасает. Творчество великих ценностей может губить. Святой Серафим ничего не творил, кроме самого себя, и этим лишь преображал мир. Пушкин творил великое, безмерно ценное для всего мира, но себя не творил. В творчестве гения есть как бы жертва собой. Делание святого – это прежде всего самоустроение. Пушкин как бы губил свою душу в своем гениально-творческом исхождении из себя. Серафим спасал свою душу духовным деланием в себе»29.
Приведем также еще два кусочка из того же места книги Н.А. Бердяева «Смысл творчества», углубляющего смысл им сказанного: «Если бы Александр Пушкин был святым, подобным св. Серафиму, он не был бы гением, не был бы поэтом, не был бы творцом. Но религиозное сознание, признающее святость, подобную Серафимовой, единственным путем восхождения, должно признать гениальность, подобную пушкинской, лишенной религиозной ценности, несовершенством и грехом. Лишь по религиозной немощи своей, по греху своему и несовершенству был Пушкин гениальным поэтому, а не святым, подобным Серафиму»30. И далее: «Я верю глубоко, что гениальность Пушкина, перед людьми как бы губившая его душу, перед Богом равна святости Серафима, спасавшей его душу. Гениальность есть иной религиозный путь, равноценный и равнодостойный пути святости (выделено мной. – Ю.Г.). Творчество гения есть не мирское, а «духовное» делание. Для божественных целей мира гениальность Пушкина так же нужна, как и святость Серафима»31.
Нам очень важно обратить внимание на то, что учебная задача по Д.Б. Эльконину, доведенная до своего предела, есть не что иное, как монашеский аскетический труд святого. Как только человек в преобразовании себя обнаруживает, что его душевная и личностная чистота превышает уровень средневзвешенных приличий и условной конвенциональной нормативности, он, для того чтобы продолжать начатый им труд, будет вынужден переходить на путь монашеско-аскетического подвига, но лишь при условии вхождения в сферу религиозного сознания.
И наоборот, предел в освоении способов решения учебных задач по В.В. Давыдову состоит в том, что человек начинает создавать (переоткрывать) общие мыслительные способы и встает на путь творца, культивируя личностную гениальность. Мы отвлекаемся в данном случае от сложного вопроса, связанного с тем, что для того чтобы стать святым или гением-ученым, гением-художником необходимо обладать высоким уровнем одаренности.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Книги похожие на "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Отзывы читателей о книге "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу", комментарии и мнения людей о произведении.