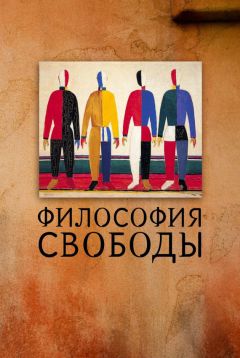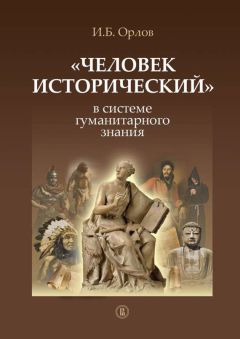Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Описание и краткое содержание "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу" читать бесплатно онлайн.
Цель книги – дать возможность читателю познакомиться с новейшими направлениями российской гуманитарной и философской антропологии, и в этом смысле издание является своеобразным энциклопедическим наброском, введением в антропологическую проблематику ХХ и начала XXI вв. Большая часть материалов, в том числе архивных, публикуется впервые. Концептуальную основу книги составляют идея несостоявшегося диалога двух мыслителей – П.А. Флоренского и Л.С. Выготского и стоящих за ними направлений, а также методологический аппарат антропологических матриц.
Особенностью замысла и построения книги является то, что представленные направления даны не изолированно, но в отношении друг к другу и к ключевым традициям российской антропологии, широко представлены материалы дискуссий.
Книга адресована широкому кругу, в том числе культурологам, психологам, философам, методологам. Особенно актуальна она будет для студентов гуманитарных вузов и тех, кто только начинает свой путь в науке.
С этой точки зрения можно было бы сказать, что момент выделения высших образцов духовных традиций становится абсолютно необходимым, когда мы начинаем осуществлять разметку пространства и переходим к проблеме взаимодействия различных цивилизаций и этноантропологических традиций. Эта проблема специально обозначается нами в политической антропологии как проблема консциентального оружия и консциентальных войн, которая разворачивается именно в последние десятилетия. Предметом воздействия и преобразования в этом столкновении является идентичность человека и способ идентификации себя. При этом основной момент выделения и обнаружения идентичности заключается в том, каким образом человек полагает и устанавливает свое родство – с одной стороны, кровное родство, с другой стороны, духовное. Об этом тоже говорил о. Павел Флоренский, подчеркивая, что в этом и состоит обретение себя как принадлежащего к определенной традиции, но при этом вступающего в различного типа взаимодействия и общение с представителями других традиций.
Таким образом, можно утверждать, что мы живем сегодня в условиях открытой конкуренции и взаимопроникновения здоровых соревнующихся сознаний, которые опираются в этом взаимодействии на определенную разметку и переработку самого поля взаимодействия. Эти взаимодействия, самоопределения, взаимоопределения являются обратной стороной проблемы консциентального оружия и консциентальных войн, смысл которых состоит в разрушении типов сложившейся этноконфессиональной, культуральной и общественной идентичности. Поэтому не случайно, по выражению ряда очень интересных западных исследователей, например, в постмодернизме проблема идентификации является plastic words, т. е. ее попросту не существует, потому что любой тип идентификации может строиться, вылепливаться при помощи экрана под то или другое лицо, которое будет демонстрировать самую причудливую идентичность. Может искусственно создаваться специальная группа, в которой будет культивироваться и тиражироваться специально сконструированная идентичность. И именно здесь, на наш взгляд, начинается очень серьезный принципиальный вопрос политической антропологии, связанный с тем, как обнаруживается не только идентичность, но и подлинность подобных проявляемых самоопределений, т. е. того, что связано с аутентичностью того или другого типа идентификации.
С этой точки зрения если мы обратимся к анализу страшного и трагического события террористического акта на мюзикле «Норд-Ост», который у многих на слуху, и попробуем выделить ключевую характеристику этого страшного события, то наше сознание упрется в антропологическую проблему смерти. Абсолютно не важно, подлинными были шахиды или кукольными. Важно другое, что была совершенно четко обозначена проблема отношения к смерти, и, следовательно, была востребована со стороны тех, кто явился предметом агрессии и актов террора, идентичность, формируемая по отношению к проблеме смерти. И с этой точки зрения соответствующий ответный духовный акт мог бы состоять в том, если бы появился здесь представитель любой другой духовной традиции, например православной, святой или человек, обладающий высоким духовным уровнем, и смог бы предъявить свое отношение к проблеме фигуры смерти – Танатоса, которая лежала в центре данного события. В этом случае момент идентичности потребовал бы выявления меры подлинности предъявленного образца самоопределения на таком своеобразном культурально-антропологическом рынке идентификаций. И вот тогда возник бы вопрос: являются ли шахиды подлинными воинами-смертниками или это все бутафория, демонстрирует ли православный подвижник соответствующее традиции отношение к смерти. Этого обмена образцами антропологического самоопределения по отношению к смерти не произошло, но феномен антропологического самоопределения был затронут. Поэтому одним из важнейших моментов столкновения различных традиций является проблема своеобразных принципов удержания-манифестации образцов самоопределения по отношению к предельным предметам – таким, как преодоление смерти в ситуации столкновения представителей разных традиций друг с другом. Возможность соотнесения подобных образцов самоопределения, культивируемых в разных традициях, требует выделения своеобразных конфигураторных пространств – коммуникативно-переговорных площадок для участников цивилизационного контакта.
Помимо тех образцов высших носителей духовных практик, которые мы обсудили выше, есть еще один образец, на наличие которого в своих работах обращал внимание Е.Л. Шифферс и который совершенно необходим для обсуждения проблем государственности в том числе. Помимо антропосов святых должен быть рассмотрен антропос православного царя, который, на наш взгляд, очень сильно и развернуто описан в работах Б.А. Успенского с выделением ряда принципиальных моментов. Позволю себе несколько цитат. «Таким образом, в Византии, как и на Западе, монарх при помазании уподоблялся царям Израиля; в России же царь уподоблялся самому Христу. Знаменательно в этом смысле, что если на Западе неправедных монархов обыкновенно сопоставляли с нечестивыми библейскими царями, то в России их сопоставляли с Антихристом»20. «Итак, смысл помазания в Византии и на Руси оказывается существенно различным: если в Византии Христос помазует царя (василевса), то на Руси царь в результате помазания уподобляется Христу»21.
Этот момент, на наш взгляд, является принципиальным и важным в том числе для осмысления различных полей взаимодействия представителей разных этносов, разных традиций этнокультур, потому что здесь, безусловно, осуществляется совершенно иная разметка поля, чем та, которую мы производим в ходе некоторого полевого этнографического эксперимента, включаясь в другую традицию, обсуждая формы построения родства и идентификации в этой традиции. Совсем иначе все это выглядит, когда мы понимаем, что находимся в ситуации установления цивилизационного контакта, что с этой точки зрения принципиально именно для азиатских пространств России.
От ситуации межцивилизационных контактов необходимо отличать анализ условий взаимодействия разных этносов и этнородов, лежащих в основе формирования и складывания контура государственности, с включением в пантеоны высших антропологических образцов лица, символизирующего данную государственность. И эта проблема тоже требует своего просмотра и анализа именно при обсуждении и выделении антропологической матрицы.
ВыводыТеперь я хотел бы сделать некоторые предварительные выводы.
1. Мне представляется, что метод о. Павла Флоренского, из которого может появиться вполне определенная культурантропологическая матрица, заключается в осуществлении определенного типа шагов. Сначала – просматривание теодицеи и осуществление по милости Божией продвижения в прикосновении к тайне тринитарных отношений. Затем – антроподицея как обнаружение человеком себя в мире на основе причастности тринитарной Божественной любви и в результате – возможность прослеживания происхождения всех основных мыследеятельностных способностей во всех полях человеческой культуры, вырастающей из культа: языка, понятий, техники, науки, в том числе и телесности. Возникает, безусловно, вопрос: как связано первое со вторым. И здесь нам кажется, что ответ на этот вопрос в работах о. Павла Флоренского представлен прежде всего в его работе «Философия культа»22, что, на наш взгляд, можно было бы на нашем языке интерпретировать как своеобразную литургическую мыследеятельность, где происходит, как показывает о. Павел, освящение и проработка всех космических стихий за счет осуществления самого культа.
Следующий момент – это идея, собственно, родовых взаимосвязей как способ обнаружения и полагания родства человеком через разные типы родства – родства по крови, родства к членам традиции, духовного родства.
И наконец, последний момент в этом пункте, про который я не говорил в своем докладе, но который, безусловно, очень важен, – это сыновнее отношение при обнаружении каждым человеком в себе отцовского дара. Сыновнее отношение любви к отцу выступает как обнаружение в себе отцовского дара и одновременно как преодоление инструментализма деятельностного подхода, предполагающего осуществление бесконечной процедуры заимствования средств. Сыновнее сознание как сознание ценностное обнаруживает в себе полноту дара, который является предпосылкой понимания мира и возможности осуществлять любую деятельность, используя различные средства. Если же этого дара нет и человек является подкидышем (так О.И. Генисаретский предлагает переводить слово «субъект»), он обречен на бесконечные неостановимые муки эпилептически настойчивого поиска средств.
2. Второй вывод связан, собственно, с проблемой построения антропологических матриц. Это понятие для обсуждения при подготовке данной конференции было предложено О.И. Глазуновой. Анализ на основе антропологических матриц, который бы позволял сопоставлять и соотносить метод Выготского и метод Флоренского, состоит в выявлении возможных переходов между совершенно разными пространствами бытования человека. Но эти переходы оказываются принципиально возможны, поскольку они могут быть описаны в едином языке типомыследеятельностных функций – мышления, мыслекоммуникации и мыследействия, понимания, рефлексии и т. д. Язык этих функций, которые по-разному интерпретируются и понимаются в каждом из этих пространств, обеспечивают единство антропологических матриц. Что представляют из себя эти матрицы-пространства?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Книги похожие на "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу"
Отзывы читателей о книге "Антропологические матрицы XX века. Л. С. Выготский – П. А. Флоренский: несостоявшийся диалог – приглашение к диалогу", комментарии и мнения людей о произведении.