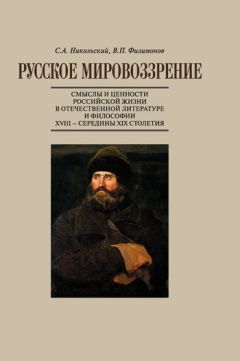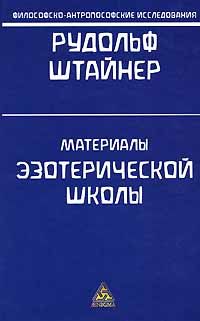Сергей Никольский - Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия"
Описание и краткое содержание "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия" читать бесплатно онлайн.
Авторы продолжают содержательную реконструкцию русского мировоззрения и в его контексте мировоззрения русского земледельца.
В рассматриваемый период существенно меняется характер формулируемых русской литературой и значимых для национального мировоззрения смыслов и ценностей. Так, если в период от конца XVIII до 40-х годов XIX столетия в русском мировоззрении проявляются и фиксируются преимущественно глобально-универсалистские черты, то в период 40–60-х годов внимание преимущественно уделяется характеристикам, проявляющимся в конкретно-практических отношениях. Так, например, существенной ориентацией классической литературной прозы становится поиск ответа на вопрос о возможности в России позитивного дела, то есть не только об идеологе, но и о герое-деятеле. Тема сознания русского человека как личности становится главным предметом отечественной литературы и философии, а с появлением кинематографа – и визуально-экранного творчества.
Вопрос о «нестыковке» мировоззрений Лаврецкого и Лизы (впрочем, как и музыканта старика-немца Христофора Лемма, о котором следует вести особый разговор), с одной стороны, и большинства обитателей и гостей Лизиной матери-помещицы – с другой, еще более осложняется тем, что и Лиза, и тем более Лаврецкий происходят из этой же русской помещичьей среды. Как повествует Тургенев, род Федора Ивановича – один из древних, тянулся от времен Василия Темного. Прадед его, к примеру, был особенно знаменит тем, что был человеком «дерзким, умным, жестоким и лукавым». Причем «молва об его самоуправстве, о бешеном его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой» «не умолкала до нынешнего дня»[61]. Дед же, напротив, хотя был взбалмошный, крикливый и грубый, но не злой, хлебосол и псовый охотник, наследовал большое состояние – две тысячи душ. Впрочем, вскоре наследство свое разбазарил.
Отец Федора Ивановича – Иван Петрович – был далек от хозяйственных забот. Воспитывался он приглашенными иностранными учителями, в том числе учеником Жан-Жака Руссо, но после смерти дальней родственницы – княжны, у которой он жил, принужден был вернуться в деревню, к помещику-отцу. Здесь его все раздражало, было не по нему: драться при нем не смей, пьяных он терпеть не мог, людского запаху и духоты он не переносил. Все это, по заключению его родителя, было от «изувера Дидерота», да от того, что у Ивана Петровича «в голове Вольтер сидит». К тому же вскоре он выкинул фортель – не только сошелся, но и женился на хорошенькой горничной, за что был принужден покинуть родительский кров. Однако скорая смерть матери Ивана Петровича примирила отца с сыном, и родившийся от этого брака Феденька Лаврецкий[62] вместе со своей матерью, вчерашней дворовой, оказался в имении деда.
Впрочем, сам Иван Петрович недолго обретался в деревне, а предпочел отбыть в Париж, где и задержался на долгие годы «для своего удовольствия». Вернувшись в Россию после смерти отца для воспитания сына, которому минул уже двенадцатый год, Иван Петрович привез с собой несколько планов касательно устройства государства Российского. Решительных перемен, однако, не последовало, за исключением того, что из дома были изгнаны приживальщики, а вместо того появились иностранные вина, плевательницы, колокольчики и умывальные столики. В хозяйственных делах все осталось по-старому, только «оброк кой-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан»[63].
Из Феди Иван Петрович стал «лепить» спартанца, то есть подвергал его всяческим физическим нагрузкам и ограничениям, резко сузил детские связи с миром, обращался сурово и лишь по нужде. Продолжалась это четыре года, после чего Иван Петрович вдруг резко переменился, из англомана стал заурядным российским байбаком и в довершение ослеп, сделавшись плаксивым ребенком и тряпкой, а потом и умер. Федору Ивановичу в то время было уже двадцать три года.
Перебравшись в Москву, Федор Лаврецкий обнаружил, что мало что умеет практически, в том числе сходиться с людьми. Но спартанское воспитание брало свое, и он стал упорно наверстывать упущенное, в том числе учиться. Между тем светская жизнь не обошла его стороной, и богатого жениха вскоре облагодетельствовала своим вниманием Варвара Петровна, дочь отставного неудачника-генерала из «середнячков». В отличие от Федора Ивановича Варвара Петровна была особа весьма практичная, хорошо знавшая жизнь и умевшая с пользой в ней устраиваться. В непродолжительное время эта ее способность проявилась в том, что во время их пребывания в Париже, уже будучи замужем, она не преминула Федору Ивановичу изменить. Федор Иванович этого не перенес и жену оставил, впрочем, назначив ей приличное содержание.
Проскитавшись по Европе четыре года, Лаврецкий почувствовал себя в силах вернуться на родину. Свое решение к перемене жизни он мотивировал так: пусть «вытрезвит меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело»[64] (выделено нами. – С.Н., В.Ф.) И новый помещик начинает жить, прилежно занимаясь хозяйством.
Впрочем, как отмечалось, используя образ Лаврецкого, Тургенев вовсе не пытается рассмотреть одни лишь возможности, границы и конкретное содержание деловой сферы новоявленного русского земледельца. Автор подходит к проблеме российского самосознания, стараясь анализировать прежде всего личность человека. И даже на уровне отдельного примера общественный резонанс оказался очень силен. Почему же резонанс от отдельного примера – личного чувства мужчины и женщины – был столь ощутим? Как такое чувство вообще стало возможно и в чем причина его резкого общественного неприятия?
В советском литературоведении проблемы, которую мы пытаемся сформулировать, не было вовсе. Все сводилось к «противоречию между велениями долга и стремлением к счастью», «долга и самоотречения»[65], как это определял, например, упоминаемый нами литературовед А. Батюто. Более того, этому тургеневскому сюжетному ходу пытались даже придать философское обоснование. При этом обращались к тезису Артура Шопенгауэра о том, что человеческому бытию должен быть присущ характер порядка, что оно представляет собой долг и что цель нашей жизни следует видеть в труде, лишениях, скорбях, а не в стремлении к счастью. Если следовать этой логике, то оказывалось, что герою нужно не переживать, не бунтовать, хотя бы даже и мысленно, а «исполнять долг» – безропотно смириться и продолжать жить с нелюбимой и неверной женой, может быть, завести интрижку на стороне. А что касается Лизы, то ей нужно без страданий отказаться от любви к Лаврецкому и смиренно принять мысль о том, что поступать так – грех. Но в этом случае роман Тургенева превратился бы в скучное морализирование, назидательную историю для не слишком продвинутого юношества.
Как нам представляется, проблема не в несовместимости долга и счастья, а в трагической неприемлемости для России того времени мысли о том, что в своей частной жизни как мужчина, так и женщина вправе выходить за пределы традиционных банально-обыденных представлений о том, как и зачем жить. И Лаврецкий, и Лиза – оба, пользуясь привычной для литературоведения терминологией, «лишние» люди. Причем если «лишние» герои-мужчины для русской литературы уже стали даже некоторой традицией, то «лишних» героев-женщин она еще не знала, а уж о том, что между «лишними» возможен союз сердец никто и вовсе не помышлял.
При этом, естественно, у Тургенева нет сколько-нибудь серьезных указаний на связи этих высоких личностных качеств героев с «русским народным характером», о котором кстати и некстати не устают упоминать литературоведы. И это понятно: сам Тургенев к гигантской теме национального характера и мировоззрения только начинал приступать.
На самом деле внешне у Тургенева все кажется простым: объяв ленная газетой смерть жены Лаврецкого оказалась ошибкой и Варвара Петровна является в деревню. С этого момента мировоззренческое столкновение Лаврецкого и жены становится неизбежным. И оно косвенно сразу же происходит: знаменателен факт чрезвычайно быстрого «прощения» супружеской измены Варвары Петровны со стороны хозяйки деревенского салона Лизиной матери, этой «Анны Павловны Шерер» российской глубинки. Что же подвигает добропорядочную мать семейства быть столь снисходительной к явному пороку?
Несомненно, обаяние лживой светскости, которой насквозь пропитана Варвара Петровна и к которой оказывается так восприимчива русская старина. Калейдоскоп чувств, оценок, мнений, принципов, которые обозначаются Варварой Петровной по мере раскрытия автором ее характера, составляет существо несколько европеизированного, но по сути все того же лицемерно-лживого традиционного русского мировоззрения земледельца-помещика в его отношениях с семьей, которое и было испокон веков. Только если прежде помещик, к примеру, беззастенчиво «брал», как вещь, приглянувшуюся ему дворовую, и жена смотрела на эту «шалость» сквозь пальцы, то теперь нравы сделались не столь варварскими, приобрели некоторый лоск. Ведь именно слова о «неопытности молодости» звучат из уст Марьи Дмитриевны в ее попытках «примирить» Лаврецкого с бывшей женой. Так произошли ли какие-либо перемены в российском миросознании, и если да, то какие именно?
Развивая тему позитивных преобразований в России, Тургенев делает попытку чуть ли не публицистического изложения этого вопроса в знаменательном споре между Паншиным и Лаврецким. Россия отстала от Европы, нужно подогнать ее, заявляет Паншин. Введите только хорошие учреждения – и дело с концом: «учреждения переделают самый этот быт». (Как бы в насмешку над этими чиновничьими мечтаниями Тургенев прерывает изложение поэтической зарисовкой: «В саду Калитиных, в большом кусту сирени, жил соловей; его первые вечерние звуки раздавались в промежутках красноречивой речи; первые звезды зажигались на розовом небе над неподвижными верхушками лип».)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия"
Книги похожие на "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Никольский - Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия"
Отзывы читателей о книге "Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия", комментарии и мнения людей о произведении.