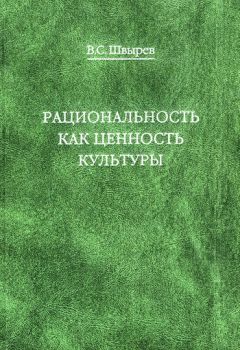Пиама Гайденко - Научная рациональность и философский разум

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Научная рациональность и философский разум"
Описание и краткое содержание "Научная рациональность и философский разум" читать бесплатно онлайн.
Тема научной рациональности стала одной из ключевых не только в современной философии науки, но и в философии культуры и в социальной философии. В книге П. П. Гайденко рассмотрен процесс рождения науки Нового времени, прослежены те факторы – религиозные, общекультурные, социальные, – которые содействовали формированию принципов научной рациональности. Автор проводит сравнительный анализ античного и новоевропейского типов рациональности, обсуждает попытки ряда мыслителей XX в. преодолеть зауженные представления о рациональности и найти выход из кризисов, порожденных индустриально – технической цивилизацией.
Издание рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся проблемами философии, науки и культуры.
4. Понятие времени. Время как число движения
Аристотель – первый из античных философов, у которого мы находим развернутый анализ понятия времени (Физика, IV, 10–14). Предшественником Аристотеля здесь был Платон; в «Тимее» он различает и сопоставляет понятия времени (χρόνος) и вечности (αίών) (Тимей, 37с-38). Согласно Платону, время было не всегда, оно сотворено демиургом вместе с космосом с целью «уподобить творение образцу». Однако природа образца вечна, а этого невозможно передать рожденному; потому демиург создал подобие вечности, ее движущийся образ – время, который «движется от числа к числу». Солнце, Луна и пять других планет созданы демиургом, чтобы «определять и блюсти число времени». В отличие от Платона, Аристотель не рассматривает акт порождения времени и не исходит поэтому из соотнесения времени с надвременной вечностью. Пытаясь уяснить себе, что такое время, Аристотель дает образец того метода, который в XX веке получил название феноменологического и которому глава феноменологической школы Э. Гуссерль научился у крупнейшего аристотелика последнего столетия – Франца Брентано. Аристотель описывает всем хорошо известный, но трудно уловимый при попытке схватить его в понятий21 феномен времени, переходя от одного аспекта к другому, третьему и т. д., последовательно отсекая те определения времени, которые оказываются лишь сопутствующими, относятся не к сущности самого времени, а к| тому, без чего мы не можем представить себе время.
Так, время прежде всего представляется каким-то движением и изменением, говорит Аристотель. Но движение может быстрее и медленнее, а время нет, так как медленное и скорое (сама медленность и скорость) определяется временем. Значит, время не есть движение, но, с другой стороны, оно не существует и без движения и изменения22. Время – это не движение, оно является движением лишь постольку, поскольку движение имеет число. Большее или меньшее мы оцениваем числом, а большее или меньшее движение – временем; следовательно, время есть некоторое число. Вот аристотелевское определение времени: «Время есть число движения по отношению к предыдущему и последующему» (Физика, IV, 11, 219b). Поскольку, однако, число имеет двоякое значение – и то, что мы считаем, и то, с помощью чего считаем в равной мере является числом, то Аристотель указывает, что время «есть именно число считаемое, а не посредством которого считаем» (Физика, IV, 11, 219b). Тем самым подчеркивается объективность, а не просто условность течения времени. Далее, число, посредством которого мы считаем, – это число вообще, абстрактное число, приложимое ко всему, что может быть сосчитано. А число считаемое – это то, которое образуют в нас наблюдаемые нами последовательные смены состояний движения (например, последовательные местоположения Солнца на Небосводе); не случайно Аристотель говорит о «чувственном восприятии предыдущего и последующего» (Физика, IV, 11, 219а 25) – восприятие играет здесь конститутивную роль, о чем у нас пойдет речь ниже.
Почему же время – именно число движения? Потому что без числа, говорит Аристотель, мы не можем ничего разграничить, ограничить, а значит, и определить – как в движении, так и во времени23. «Мы и время распознаем, когда разграничиваем движение, определяя предыдущее и последующее, и тогда говорим, что протекло время, когда получим чувственное восприятие предыдущего и последующего в движении. Мы разграничиваем их тем, что воспринимаем один раз одно, другой раз другое, а между ними нечто отличное от них; ибо когда мы мыслим крайние точки отличными от середины и душа отмечает два «теперь», тогда это именно мы называем временем» (Физика, IV, 11, 219а 21–29). Момент «теперь» является, таким образом, средством для счета и тем самым определения (разграничения) времени; само «теперь», как поясняет Аристотель, не есть время, оно не является «частью», «минимальным отрезком» времени, как это часто представляют себе, – оно есть «граница времени» точно так же, как точка является не частью линии (всякая, как угодно малая часть линии в свою очередь бесконечно делима), а ее границей. И соответственно время также не слагается из многих «теперь», как линия из точек.
Точка на линии и разделяет линию, и в то же время связывает ее, будучи концом одного отрезка и началом другого (таково определение непрерывности у Аристотеля) – так же обстоит дело с моментом «теперь» на «линии» времени. Однако между «теперь» и точкой есть и различие. То обстоятельство, что «теперь» и соединяет, и разъединяет «отрезки» времени, «не так заметно, как для пребывающей на месте точки. Ведь «теперь» разделяет потенциально. И поскольку оно таково, оно всегда иное, поскольку же связывает, всегда тождественно, как точка в математических линиях» (Физика, IV, 13, 222а 10–16).
Здесь мы можем вернуться к оставленному открытым вопросу: что кладет предел бесконечности во времени? Именно «теперь» есть тот «конец», который оформляет бесконечность времени; только, в отличие от числа и величины, у которых, как мы помним, «граница» проходит «внизу» и «вверху», «граница» времени проходит, образно говоря, в «середине»: ведь «теперь» отделяет прошедшее от будущего и в то же время соединяет их. «Невозможно, чтобы время существовало и мыслилось без «теперь», а «теперь» есть какая-то середина, включающая в себе одновременно начало и конец – начало будущего и конец прошедшего» (Физика, VIII, 1, 251b). Существенно то, что и здесь бесконечное оформляется неделимым: момент «теперь», сам не будучи временем, только и может «ограничивать» время и служить основой его непрерывности24.
Характерно, что в XVII–XVIII вв., когда происходит становление новой философии и новой науки, когда пересматривается многое из наследия Аристотеля, изменяется и понимание времени. И прежде всего элиминируется конституирующая роль вневременного начала – «теперь», поскольку понятие бесконечного получает прежде не свойственное ему значение25.
Коль скоро мы коснулись специфики именно античного восприятия времени, отметим и еще один момент. Разъясняя, что все вещи, кроме вечных, объемлются временем, Аристотель неожиданно (для нас) приходит к заключению, что «время само по себе является причиной уничтожения: оно есть число движения, движение же выводит существующее из его положения» (Физика, IV, 22, 221b). С точки зрения понимания времени, какое мы находим у Галилея, Декарта, Ньютона, время в такой же мере – причина уничтожения, как и возникновения, подобно тому как в абстрактном пространстве механики нового времени тоже нет предпочтительных точек и абсолютных мест. Для Аристотеля же время есть мера движения и покоя вещи, и эта мера у каждой вещи – своя. Время отмеряет каждому сущему его срок, а потому оно не вполне абстрактно и равнодушно к своему содержанию. «У каждого существа времена, т. е. сроки жизни, имеют свое число, и этим числом они различаются. Ведь все имеет свой порядок, и всякая жизнь и время измеряются периодом» (О возникновении и уничтожении, II, 10, 336b 11–14).
Однако средством измерения времени (его «мерой по преимуществу», как говорит Аристотель) является равномерное круговое движение, т. е. движение небосвода.
Итак, время есть число движения. Но тут естественно возникает вопрос: поскольку время, в отличие от арифметического числа, непрерывно, то ему скорее подходит определение величины25. Движение потому обычно и связывается в сознании с представлением о времени, что оно тоже непрерывно. «Так как движущееся движется от чего-нибудь к чему-нибудь и всякая величина непрерывна, то движение следует за величиной; вследствие непрерывности величины непрерывно и движение, а через движение и время» (Физика, IV, 11, 219a 11–13). Стало быть, по Аристотелю, время, как и движение, является величиной. По отношению же к величине встает задача измерения, почему время обычно ассоциируется именно с измерением – движения, изменения, а также и покоя. При этом возможно как измерение величины движения с помощью времени, так и величины времени с помощью движения. «Мы не только измеряем движение временем, но и время движением вследствие их взаимного определения, ибо время определяет движение, будучи его числом, а движение – время» (Физика, IV, 12, 220b 15–16).
Аристотель вводит определение времени как меры движения, учитывая как раз то обстоятельство, что и время, и движение суть непрерывные, то есть бесконечно делимые величины. Некоторые исследователи полагают, что эти два определения времени – как числа движения и как меры движения – сознательно различены у Аристотеля: дефиниция времени как числа движения выражает сущность времени, а определение его как меры движения касается его функции. Такую точку зрения высказывает, в частности, П. Конен. Согласно Конену, число и мера имеют разное отношение к движению: мерой время является только по отношению к «первой мере» – круговращению небесного свода, а числом время будет по отношению ко всякому движению. Определение времени как числа движения онтологически первичнее, чем определение его как меры движения27. Учитывая, что измерение всегда есть отнесение к единице меры, а стало быть, предполагает установление отношения, такое соображение совершенно справедливо.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Научная рациональность и философский разум"
Книги похожие на "Научная рациональность и философский разум" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Пиама Гайденко - Научная рациональность и философский разум"
Отзывы читателей о книге "Научная рациональность и философский разум", комментарии и мнения людей о произведении.