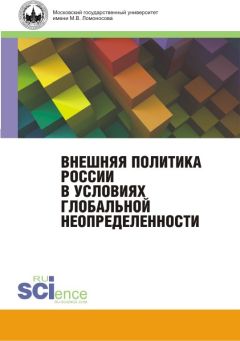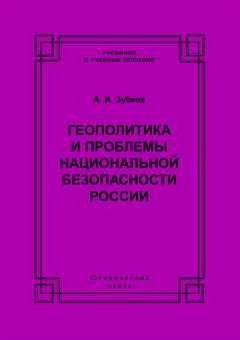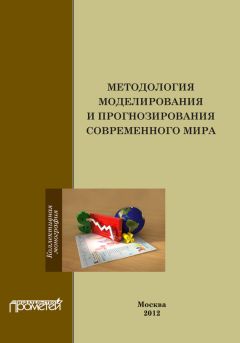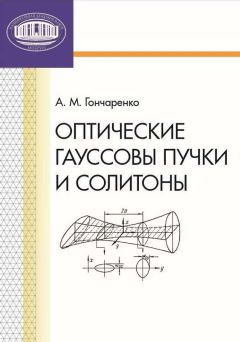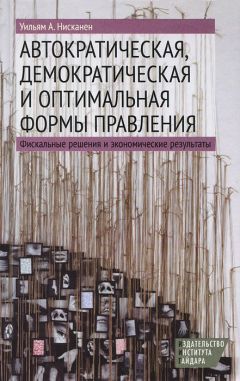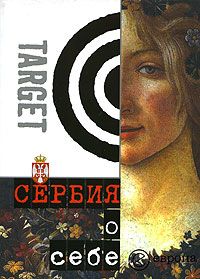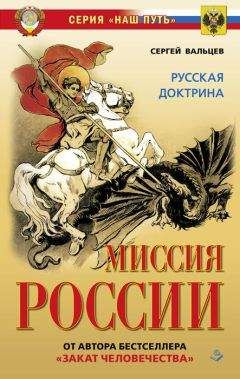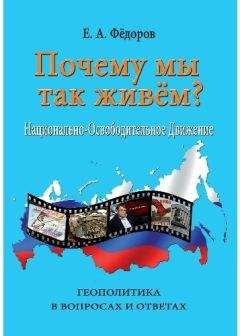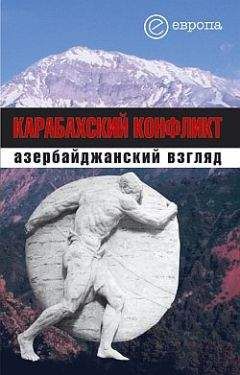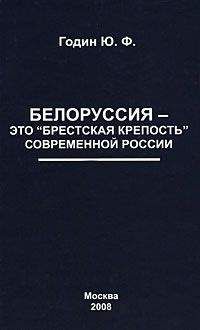Коллектив авторов - Проблемы Северо-Кавказского федерального округа. Материалы круглого стола
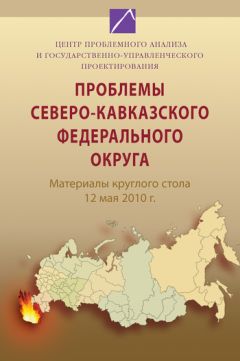
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Проблемы Северо-Кавказского федерального округа. Материалы круглого стола"
Описание и краткое содержание "Проблемы Северо-Кавказского федерального округа. Материалы круглого стола" читать бесплатно онлайн.
Академия геополитических проблем и Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования провели углубленный мозговой штурм современных проблем Кавказа. Анализ, которому подвергли ситуацию участники, получился открытым, профессиональным и конструктивным. Вопросы: «Что происходит?», «Почему?» и «Что делать?» – получили конкретные ответы.
Результаты анализа, представленные в этом издании, адресованы заинтересованным специалистам.
Ситуацию в каждой республике можно оценивать в таких терминах и с таких концептуальных и методологических позиций. Как следствие, я формулирую социологический закон двухкратных различий по ряду значимых признаков между регионом Северного Кавказа и «русскими» субъектами РФ, или Россией в целом. Этот закон предопределяет специфические трудности управления регионом, и они связаны с особенностями социальной структуры и культуры (нормы, ценности и обычаи) местных обществ; со спецификой формирования местной элиты; с некоторыми противоречиями между федеральными законами и легитимным правом и нормами. Различия носят качественный характер и не просто по какому-то одному признаку, а во всем многообразии: степени урбанизации и индустриализации, демографическим и профессионально-образовательным, этническим и конфессиональным, общественным нормам и ценностным ориентациям. Из общего контекста выпадают два региона: Ставропольский край и РСО – Алания.
Правомерен вопрос: а как же в период бывшего Союза? Ведь тогда удалось так модернизировать местные общества, что мы вправе говорить об их индустриально-аграрном типе и соответствующих ценностях и их носителях; о развитой социальной структуре и т. п. на Северном Кавказе. Так-то оно так. Но нельзя отрицать насильственный характер некоторых модернизационных начинаний центральной власти в 30-50-е гг. прошлого века. На месте «старой» (уничтоженной или вытесненной на периферию) элиты была взращена новая советская элита из местных кадров. А в условиях строгой централизации и тотального контроля новая (партийно-хозяйственная) элита не смела рисковать и остерегалась злоупотреблять властью. Непотизм и патронажно-клиентальные модели взаимодействия «верхов» и «низов», безусловно, имели место, но эти явления не носили системного характера. Соответственно и коррупция, и теневая экономика и прочие «болячки» Системы в регионе не носили столь обостренного характера, как, к примеру, у соседей по Южному Кавказу (в бытность Союза ССР). Различия между Северным Кавказом и «русскими» субъектами РФ в целом, безусловно, сохранялись, но они не носили столь явного характера.
Кроме того, «бурные» 90-е гг. прошлого века отбросили Северный Кавказ (особенно три республики – Дагестан, Чечню и Ингушетию) на многие десятилетия назад. Мы вправе говорить о более ярко выраженных процессах деиндустриализации и демодернизации (автор вкладывает в это понятие несколько иное содержание, нежели неолибералы) в регионе. К примеру, падение промышленного производства в регионе за период 1991–1999 гг. составило цифру порядка 4,5–5 раза, тогда как по стране в целом – только два раза. Разница ощутимая, качественная. Нельзя сбрасывать со счетов и влияние сепаратистской Чечни и первой чеченской кампании в те годы.
Другой важный фактор в социологическом законе двухкратных различий – это особая конфессиональная ситуация[3]: мощная волна реисламизации за последние 20 лет – характерная особенность региона. Но процесс реисламизации протекает противоречиво: внутри одной конфессии возникли множество конфликтующих между собой «партий» сектантского типа. С одной стороны, мы имеем нескольких влиятельных течений традиционного ислама, представленных суфистскими (мистическими) орденами с многочисленными группами поддержки в структурах власти и местной олигархии в республиках Северо-Восточного Кавказа. С другой стороны – сторонники так называемого «чистого» ислама «такфиристов» («обвинение в неверии»), отвергающих культ шейхов и традиционалистские интерпретации ислама. Между этими противостоящими «партиями» располагается многочисленная группа мусульман с той или иной степенью идентификации – так называемое «молчаливое большинство».
И, наконец, в условиях ничем не ограниченной свободы и демонтажа скрепляющей Союз и многие народы идеологии на передний план выступили другие идентификационные маркеры, доселе вытесненные с политического дискурса, – этнические, субэтнические и конфессиональные. Социальная структура «вдруг» заиграла всеми цветами радуги: многие «боссы» вспомнили о своих земляческих корнях и лихорадочно стали формировать квазипартийные структуры. Если нет общих, объединяющих скреп, размывается и система общих «правил игры». Тут вполне пригодна и модель относительности «правил игры», которые можно и нужно подстраивать под интересы своей социальной «корпорации».
В сельской же местности реформы способствовали возрождению традиционных институтов местного самоуправления – так называемых джамаатов (советов общин сел или группы сел). Отчасти, в Чечне и в большей степени – в Ингушетии аналогом таких структур местной демократии выступали традиционные советы тейпов – родовых или племенных структур. Уже в начале 1990-х гг. джамааты и тейпы стали играть весомую роль в политической жизни районов и в местном самоуправлении. В зависимости от силы религиозного фактора, это влияние распространялось и на такие сферы, как землепользование, бракоразводные процессы, продажа алкоголя, а не только на вопросы выборов в местные органы власти. В Чечне, при Дудаеве, был даже создан Совет тейпов республики, который впоследствии сошел с общественной арены, ибо оказался не на уровне поставленных задач. Сей институт попросту дискредитировал себя.
Кое-кто из исследователей говорит об «архаизации», имея в виду такой тип возрождения традиционной демократии на Северном Кавказе; а в само понятие вкладывают отрицательный смысл. Я же склонен здесь анализировать этот процесс в целом: есть в нем позитивные и негативные стороны. Умная и ответственная власть (идеальный тип) могла и должна была нейтрализовывать негативные аспекты и усиливать, взращивать позитивные. Но вместе этого институты традиционной демократии в «верхах» стали воспринимать чаще всего как досадные помехи в их политических расчетах. Или старались манипулировать ими, «покупая» их лояльность и поддержку.
Таким образом, особенность социальной структуры местных обществ заключается в сочетании патронажно-клиентальных («вертикальных») связей с развитой сетью общинных (гражданских) структур на уровне местного самоуправления. Первый тип социальных связей формирует коррупционную, меркантилистскую систему, разрывающую общество на множество фрагментов. Второй тип социальных связей формирует мини-гражданское общество на уровне местного самоуправления (МСУ).
Но социальная структура на Северного Кавказе не однотипна. Можно выделить свои особенности в Дагестане и КЧР (в некоторой степени и КБР) – с одной стороны, и в Чечне и Ингушетии – с другой. РСО – Алания, в силу высокой степени урбанизации и более современного типа социальной структуры, нельзя отнести ни к одной из этих групп. Община в Дагестане, КБР и КЧР – это прежде всего территориальная община гражданского типа: своеобразный мини-полис со своей историей и демократической традицией, с минимумом влияния родовых связей. В Чечне и Ингушетии община – это прежде всего структура, сочетающая в себе гражданскую и, отчасти, родовую (тейповую) традицию. Эта особенность социальной структуры местных обществ отражается и на гражданской активности: она выше, как правило, на муниципальном уровне (сельском, районном, поселковом) и заметно ниже на республиканском уровне – при выборах в Госдуму и Президента РФ.
С другой стороны, живучесть патронажно-клиентальных связей блокирует формирование настоящего (граждански ответственного) общества на уровне региона (республики). Множество локальных общин гражданского типа не складываются в современное общество.
К каким системным изменениям приводят такие особенности социальной структуры и социокультурной системы в регионе? Дополняя то, что мы отмечали выше, это прежде всего системный характер коррупции и меркантилизм, более ярко выраженная, чем в стране в целом, «криминализация» политической и экономической сфер. Такое общество не консолидировано, мозаично настолько, что гражданская составляющая (профсоюзы, партии, движения и пр.) в городах региона просто «тонут» в плюральном сообществе общинных или олигархических структур. А унифицированная (в масштабах страны) политико-правовая система не отражает реальных социально-политических и политэкономических отношений в регионе. Многообразие интересов и конфликты не получают своего законного отражения в представительских и исполнительных органах власти. В результате они вытесняются в тень, легитимируя теневое право. Как следствие, деформируется вся Система; конфликт интересов ведет к значительному росту коррупции и теневой экономики. Сравнительный анализ субъектов РФ по развитию теневой экономики в 1995–1997 гг. показал, что в этой негативной иерархии первые «строчки», как правило, занимают республики Северного Кавказа[4]. Косвенный индикатор серьезности проблемы – один из самых низких показателей налоговых и неналоговых сборов в России, оцениваемый в процентах по отношению к валовому региональному продукту (ВРП). В данном случае мы лишь развиваем идею о тесной связи теневой экономики с организованной преступностью и коррупцией, с масштабами социальной поляризации, слабостью госаппарата и политэкономическим террором как следствиями жесткой конкуренции олигархических «синдикатов». Эти выводы получили широкое распространение и подтверждение в исследованиях Всемирного банка, а также ученых знаменитого Института свободы и демократии (Перу)[5] и др.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Проблемы Северо-Кавказского федерального округа. Материалы круглого стола"
Книги похожие на "Проблемы Северо-Кавказского федерального округа. Материалы круглого стола" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Проблемы Северо-Кавказского федерального округа. Материалы круглого стола"
Отзывы читателей о книге "Проблемы Северо-Кавказского федерального округа. Материалы круглого стола", комментарии и мнения людей о произведении.