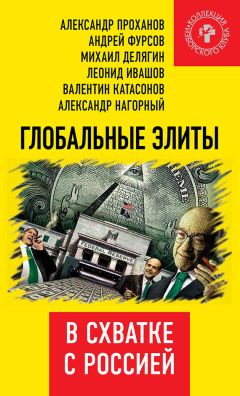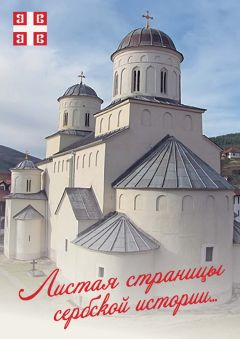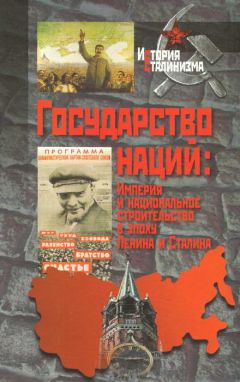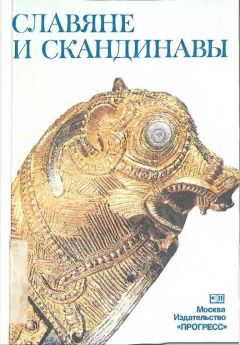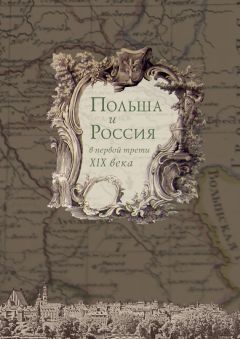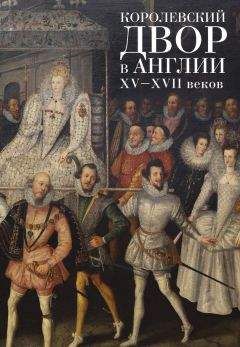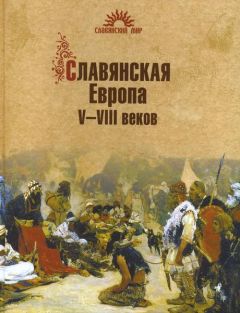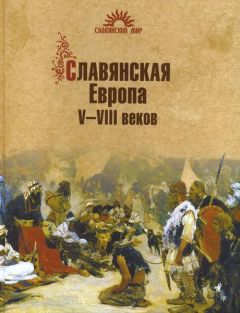Коллектив авторов - Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья"
Описание и краткое содержание "Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья" читать бесплатно онлайн.
Исследования последних десятилетий позволили выявить характерные черты особого пути формирования государственности и классового общества у славянских народов в эпоху раннего средневековья, когда социальную элиту общества и одновременно государственный аппарат составляла военная корпорация – дружина. Авторы книги показывают, каким образом в текстах средневековых авторов отражался и осмыслялся этот своеобразный общественный строй. В книге выявляются и анализируются содержащиеся в литературных текстах представления о древнейшей истории славян, зарождении первых славянских государств и их властных структур, реальных отношениях и идеальной модели отношений правителя, социальной элиты и подданных. Специально внимание уделено исследованию памятников скандинавской общественной мысли в сопоставлении со славянскими.
Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований Отделения историко-филологических наук РАН «История, языки и литературы славянских народов в мировом социокультурном контексте»
Рассмотренные высказывания позволяют охарактеризовать то идеальное политическое устройство «Русской земли», к осуществлению которого стремились печерские летописцы.
Каждый из князей должен был владеть своим княжеством, полученным от отца, не покушаясь на чужие владения. Все князья – члены княжеского рода – должны были жить между собой в «любви» и дружбе, как близкие родственники (потомки одного отца и матери) и как благочестивые христиане, следующие нормам христианской морали. Вместе, объединившись, они должны были блюсти свое общее наследие – «Русскую землю» и защищать ее от врагов.
Этот же идеал иными средствами пропагандировали и отстаивали создатели целого ряда памятников, связанных с формированием культа первых русских святых – Бориса и Глеба. Конечно, развитие их почитания было результатом действия разных факторов и отвечало многим важным духовным потребностям Древней Руси, не обусловленным непосредственно общественной жизнью. Но очевидна все же и связь между формированием культа Бориса и Глеба и поиском русским обществом ответа на вопросы, вставшие перед ним с началом политического распада Древнерусского государства[156].
По общему мнению исследователей, наиболее ранним памятником борисоглебского цикла является так называемое «Анонимное сказание о Борисе и Глебе», зафиксированное в дошедшем до нас виде в начале 1070-х гг.[157], после того как сыновья Ярослава Мудрого торжественно перенесли их останки в новый, специально построенный для этого храм. Текст памятника обнаруживает большую близость к тому повествованию о Борисе и Глебе, которое читается в печерских летописных сводах[158].
В основной части рассказа противостоят друг другу два главных персонажа повествования – Борис, сын Владимира Святославича, и его старший брат Святополк. Борис, любимый сын Владимира, был им послан с войском против печенегов, и в походе к нему пришла весть о смерти отца и вокняжении в Киеве Святополка. Тогда дружина стала предлагать Борису сесть «на столе отьни» в Киеве, т. к. все войско находится вместе с ним и будет повиноваться его приказам. Борис, однако, отклоняет эти предложения – он не может поднять руки «на брата своего», тем более на «старейшего» брата, который теперь заменяет ему отца. Борис делает свой выбор, уже зная, что брат хочет убить его, и добровольно принимает смерть от убийц, посланных Святополком. Молодой князь отвергает мимолетные мирские блага, которые мог бы принести ему захват киевского стола, отдавая предпочтение вечному блаженству, которого можно достичь «тъкмо от добр дел и от правоверия и от нелицемерьныя любве»[159].
Этот эпизод стал предметом дополнительных рассуждений автора другого памятника борисоглебского цикла – Нестора, написавшего свое «Чтение о Борисе и Глебе» в 1080-х гг.[160] Рассказ о том, как дружина предлагала Борису возвести его на киевский стол, здесь существенно видоизменен. С одной стороны, Нестор подчеркивает, что это была большая военная сила – 8 тысяч воинов, «вси же во оружии». С другой, под его пером меняется сам ответ Бориса дружинникам. Князь говорит не только о том, что он не желает выступать против «старейшего брата», заботясь о дружинниках «акы братьи своей», он не хочет, чтобы они вступили в войну: «уне ми одиному умрети, нежели толику душь»[161]. Таким образом, Борис добровольно идет на смерть не потому лишь, что не желает нарушить «заповеди любви», но и чтобы предотвратить усобицу и гибель людей.
Эта тема получает продолжение в дальнейшем рассказе о гибели Глеба. Когда сопровождавшие княжича воины берутся за оружие, чтобы защитить его от убийц, он вводит их в заблуждение, отсылая прочь, чтобы они не погибли вместе с ним. «Хотяше бо святый, – разъясняет агиограф, – един за вся умрети» [162]°.
В заключительной части памятника, размышляя о значении подвига святых, Нестор снова напомнил, что Борис и Глеб запретили сопровождавшим их воинам сражаться и «в домы своя повелеста им ига», так как хотели пожертвовать собой ради спасения их жизни, следуя примеру самого Христа, «иже положи душу свою за люди своя»[163].
В этих настойчивых напоминаниях Нестора отражалось убеждение печерской братии о глубокой гибельности княжеских усобиц, сопровождавшихся разорением страны и массовой гибелью людей. Отсюда высокая оценка подвига святых, предотвративших усобицу своей добровольной смертью во имя спасения «братьев во Христе» – жителей Русской земли[164].
Очевидно, что поведение князей, причисленных к лику святых и ставших объектом всеобщего почитания, должно было служить примером, образцом для других «младших» князей – членов княжеского рода. Если в «Анонимном сказании» это лишь подразумевалось, то Нестор высказался на эту тему прямо и откровенно. «Видите, – писал он, обращаясь к читателю, – коль высоко покорение, еже стяжаста святая ко старейшему брату», а если бы они выступили против него, то не были бы «такому дару чюдесному сподоблена от Бога». И далее, словно ставя точки над «i»: «мнози бо суть ныне детескы князи, не покоряющиеся старейшим, и супротивящаяся им, и убиваемы суть, те не суть такой благодати сподоблены, яко же святая сия»[165].
Борису в повествовании этого цикла агиографических памятников противопоставлен его «старейший» брат Святополк. Он выступает как одержимый дьяволом человек, который отвергает все нормы отношений, принятые между братьями. Он желает их убить, чтобы сосредоточить в своих руках «всю власть» над Русской землей, и с этой целью посылает убийц к Борису. В летописном рассказе говорится, что эти убийцы, близкие к Святополку «вышегородские боярце», хуже, чем бесы, – «бесы бо Бога боятся, а зол человек ни Бога боится, ни человек ся стыдит» (ПВЛ, с. 178). Понятно, что в еще большей степени эти слова относятся к самому организатору убийства.
Не удовлетворившись гибелью Бориса, Святополк умножает свои беззакония, организуя убийства других своих братьев[166], но эти деяния навлекают на него Божью кару. Потерпев поражение в борьбе с Ярославом, выступившим мстителем за братьев, он бежит из Русской земли на запад. «И нападе на нь бесе, и расслабиша кости его… И несяхуть его на носилехь»; во власти страха перед невидимым противником он «не можаше търпети на едином месте, и пробеже Лядьску землю, гоним гневом Божиим». Святополк бесславно гибнет в пустыне «межю чехы и ляхы», душа его попадает в ад, а от его могилы «исходит… смрад зълыи на показание человеком» (ПВЛ, с. 188)[167], и это ожидает всех совершающих подобные деяния.
Следует признать весьма важным, что авторы и «Анонимного сказания» и летописного рассказа не удовлетворились описанием конца, постигшего Святополка, но нашли нужным сопроводить его специальным комментарием. Создатель «Анонимного сказания» отметил, что тот, кто, зная о судьбе, постигшей братоубийцу, все же повторит его деяния, будет наказан Богом более жестоко[168]. Еще определеннее выразился автор летописного рассказа: «Се же Бог показа на наказанье князем русьскым, да аще сии еще сице же створять, се слышавше, ту же казнь приимут, но болше сее, понеже се ведуще бывшее, створити такое же зло братоубийство» (ПВЛ, с. 188).
О том, какое значение придавалось этим предостережениям в среде русского духовенства, говорит такой памятник борисоглебского цикла, как паремейные чтения о Борисе и Глебе, включенные в состав Паремейника – сборника отрывков из библейских книг Ветхого Завета, читавшихся во время церковной службы. Этот текст близок к рассказу печерских сводов, а не к агиографическим памятникам цикла[169]. Включение этого рассказа, разбитого на три части, озаглавленные «От Бытия чтение», в Паремейник представляет собой беспрецедентный случай в православной славянской (не говоря уже о византийской церковной) практике[170]. Знакомство с текстом показывает, что его главным содержанием является рассказ о низложении и бесславной гибели Святополка.
Этот ярко охарактеризованный в текстах древнерусских книжников отрицательный образ «старейшего» князя, главы княжеского рода, позволяет, отталкиваясь от противного, представить тот идеал, к воплощению которого стремились круги русского духовенства, связанные с Печерским монастырем и храмом Бориса и Глеба в Вышгороде. «Старший» князь, «старейшина» княжеского рода, должен был не только не посягать на жизнь и имущество «младших» членов, но и оказывать им покровительство «в отца место».
Обращение к памятникам борисоглебского цикла позволяет восполнить одну из важных черт идеала, которым вдохновлялись эти круги. В сообществе управлявших Русской землей членов княжеского рода отношения между «старшими» и «младшими» должны были строиться на основе взаимной любви и уважения, когда последние повинуются первым, не оспаривают их власти, подчиняются их указаниям, а «старшие» не притесняют и по-отечески опекают их.
В сознании русского духовенства роль борисоглебского культа – культа первых русских святых, «патронов» Русской земли, далеко не исчерпывалась утверждением в общественном сознании определенных идеалов. В текстах, содержавших похвалу новым святым, неоднократно выражено убеждение, что эти небесные покровители Руси своим сверхъестественным вмешательством не только защищают Русскую землю от «бранного меча», которым угрожают «поганые», от их «дерзости», но и от «усобичьные брани», раздоров между князьями, вызываемых происками дьявола (ПВЛ, с. 182)[171]. Идеал, пропагандируемый печерскими летописцами и вышгородскими клириками, был неосуществим, и не только потому, что в отношениях между собой члены княжеского рода далеко не всегда проявляли склонность руководствоваться нормами христианской морали. Еще более важно, что сидевшие на княжеских столах потомки Рюрика испытывали мощное воздействие местной знати, стремившейся к обособлению от Киева, освобождению от его верховенства, что отвечало и устремлениям самих князей.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья"
Книги похожие на "Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья"
Отзывы читателей о книге "Общественная мысль славянских народов в эпоху раннего Средневековья", комментарии и мнения людей о произведении.