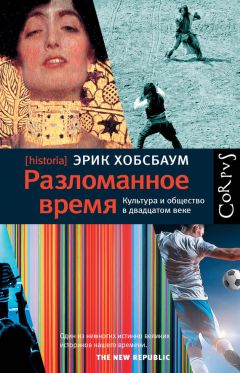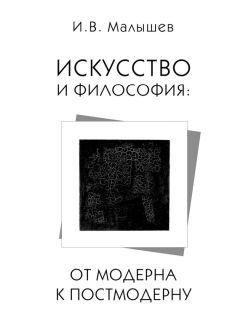Дирк Кемпер - Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна"
Описание и краткое содержание "Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна" читать бесплатно онлайн.
Книга Дирка Кемпера, представителя современного культурологического направления в немецком литературоведении, посвящена реконструкции одного из центральных сюжетов в истории европейской культуры – становлению концепции индивидуальности в творческом развитии Гёте, от «Вертера» через «Вильгельма Мейстера» к «Поэзии и правде». Этапы этого становления реализуют, по мысли автора монографии, парадигму самоопределения современной личности, человека модерна. Философия личности у Гете, проблема ее самопознания, ее свободы и суверенитета, условий ее интеграции в господствующую картину мира, принципов ее художественного изображения раскрыта автором монографии на глубоком фоне эстетической и культурфилософской мысли Нового времени. Исследовательский метод Д. Кемпера характеризуется сочетанием традиционной для немецкой науки филологической основательности с новейшими приемами анализа нарративных структур, подчеркнутого внимания к литературно-историческому контексту с широтой философско-антропологического подхода.
Конститутивным принципом этого традиционного отношения между индивидом и обществом является инклюзия, полная и длящаяся, как правило, всю жизнь включенность индивида в ту или иную подсистему стратифицированного общества. Результатом этих отношений выступает определенный тип домодернистской индивидуальности, которую Луман связывает с понятием инклюзии, именует инклюзионной индивидуальностью[197]. Личное самосознание означает в этом случае осознание своего места в подсистеме, т. е. – в кричащем противоречии с нашими сегодняшними представлениями – не что иное, как осознание своей заданной извне включенности в отведенную структуру. Так оценивает себя, например, Гец, идентифицирующий свою личность по ее принадлежности социальному сословию свободного рыцарства.
На совершенно иных основаниях строится система современного общества, в которой господствует функциональная дифференциация. По мере разложения застывших стратификационных структур зарождается новое чувство свободы, новое представление о внесословных правах человека, увеличивается социальная мобильность, возрастает свобода выбора своего жизненного пути и т. д. Однако все эти возможности открываются перед личностью лишь постольку, поскольку она способна довольно длительное время оберегать себя от притязаний и требований, предъявляемых обществом. Конститутивный принцип такой позиции – эксклюзия, которая, с другой стороны, именно и позволяет индивиду включаться в более дифференцированные, более разнообразные отношения с обществом, выступая по отношению к нему в различных функциях. Если сословные или стратификационные отношения допускали доступ лишь к одной социальной подсистеме, то в современном обществе, с которым личность связана по функции, она имеет возможность вступать в функциональные связи с различными подсистемами одновременно, так как связь с одной из них, не исключает связи и с другими. Так, характер и степень причастности к системе общественного труда не детерминирует более характер и степень причастности к системе распределения политической власти (всеобщее избирательное право), не предопределяет с железной необходимостью степень причастности к системе культуры (опыты компенсации социального неравенства на пути организации общеобразовательной школы, образовательных учреждений для рабочих) и т. д. Лишь на этом фоне и могло возникнуть наше современное понимание индивидуальности, та индивидуальность, которую Луман называет эксклюзионной. Лишь теперь под индивидуальностью начинают подразумевать нечто уникальное, своеобразное, прежде всего нечто отдельное от социальной структуры и ей предшествующее – не следствие включенности в общество, а его предпосылку. Именно такой концепт личности впервые оказывается способным оправдать социальную девиантность, различные формы отклонения от социальной нормы, объяснить и узаконить возможность того, что личность отвергает социальные ожидания и избирает путь, резко отклоняющийся от предписанного.
Проецируя терминологию Лумана на первое письмо Вертера, можно утверждать, что его начало эффектно вводит мотив социальной эксклюзии:
Как счастлив я, что уехал![198]
Откуда Вертер уехал, от чего он освободился или почувствовал себя свободным? Первый ответ на этот вопрос читатель находит в упоминании о любовных отношениях Вертера с некоей «бедной Леонорой»[199], но очень скоро убеждается в том, что речь идет о более принципиальных вещах. Ключом к пониманию этого уже в начале романа становится сигнальное слово «одиночество»; Вертер наслаждается своим одиночеством, называя его «бальзамом для своего сердца»[200]. Под одиночеством подразумевается при этом не отрешенность отшельника, ибо Вертер живет в городе[201] и ведет переговоры по поводу наследства своей тетушки, а социальная ситуация абсолютной предоставленности самому себе, которая позволяет откладывать или прямо отвергать любые притязания, предъявляемые ему извне.
В первом же письме Вертер легкомысленно отмахивается от всех дальнейших вопросов, связанных с хлопотами о наследстве:
Короче говоря, я ничего не хочу об этом писать, скажи моей матушке, все будет хорошо[202].
Как мы увидим, по ходу романа эксклюзивная позиция героя приобретает все более радикальное выражение.
С другой стороны, когда Вертер поступает на службу к посланнику, т. е. пытается занять по отношению к окружающему его миру позицию инклюзии, эта единственная его попытка заканчивается полным крахом. Неудовлетворенность, заставляющую его в конце концов просить об отставке, Вертер объясняет тем, что он не может примириться с таким положением, в котором его индивидуальные способности и таланты остаются невостребованными, и от него ждут лишь бездушного формализма; он не желает последовать совету графа фон С. и «с этим примириться»[203]. Ответственность за свою «досаду»[204] он возлагает на тех, чьим аргументам и уговорам он в данном случае последовал:
И в этом повинны вы все, из-за ваших уговоров и разглагольствований впрягся я в это ярмо. Труд![205]
Употребляя выражение «вы все», герой риторически вырывается за рамки коммуникативной ситуации, ибо под «всеми» подразумевается здесь не только адресат писем Вильгельм, но и семья, и учителя, все педагогически озабоченное окружение, подтолкнувшее его к тому, чтобы принять предлагаемую обществом возможность инклюзии в гражданскую «vita activa». Испытав социальное унижение в обществе гостей графа, Вертер еще больше заостряет свои обвинения, но его гнев направлен в первую очередь на себя самого; он обвиняет себя в непоследовательности, в том, что не осмелился до конца вести себя «по своему разумению», временно поддавшись типичному для своей среды искушению инклюзии:
У меня была неприятность, из-за которой мне придется уехать отсюда: я скрежещу зубами от досады! Теперь уж эту дьявольскую историю ничем не исправишь, а виноваты в ней вы одни, вы же меня подстрекали, погоняли и заставляли взять место, которое было не по мне. Вот теперь получили и вы, и я! (6, 57)[206]
Однако при ближайшем рассмотрении должность, служба, если и явились причиной досады Вертера, то лишь весьма опосредствованной. Причину досады следует искать в самом Вертере, точнее, в его попытке вступить в функциональные отношения с обществом и вместе с тем сохранить свою эксклюзивную позицию, свои притязания на то, чтобы другие видели в нем не носителя социальной функции, но человека, индивидуальную личность. В основе вертеровского неприятия общества лежит не столько консерватизм феодальных отношений, как то было принято подчеркивать в исследованиях семидесятых годов, сколько уже намечающиеся в социальной практике XVIII века признаки функциональной дифференциации.
В своих отношениях с посланником, которого Вертер характеризует как «педантичнейшего глупца»[207], «невыносимого» и «комичного»[208], он настаивает на том, чтобы его и на службе не только воспринимали как неповторимую личность, но и позволяли ему поступать соответственно своей индивидуальности. Вплоть до стилистических тонкостей защищает он свою манеру работать «легко и споро», по принципу «сразу набело, как есть, так есть»[209], жалуясь на то, например, что посланник требует от него соблюдения в деловых документах и переписке нормативного канцелярского стиля и не прощает ему тех элизий и инверсий, «которые я иногда допускаю»[210]. Вертеру даже в голову не приходит, что его индивидуальный стиль может не соответствовать той профессиональной функции, которую он на себя принял, поступив на службу. In mice здесь уже содержится вся проблема его отношений с посланником, министром и графом фон С, проблема, состоящая именно в том, что Вертер не желает становиться носителем какой-либо определенной, навязанной ему извне социальной роли и функции.
Его иллюзию о том, что такая позиция действительно совместима с практической деятельностью, питает само функционально дифференцированное отношение к нему со стороны министра и графа. На жалобу посланника, что Вертер исполняет свои обязанности «как ему вздумается», министр отвечает «мягким порицанием»[211], но сопровождает его личным письмом, в котором с симпатией, по-отечески, советует Вертеру исправить те индивидуальные отклонения, которые ему присущи, – «моя чрезмерная обидчивость…, мои сумасбродные идеи о полезной деятельности»[212]. Тем самым министр выдерживает принцип ролевой и функциональной дифференциации между профессионально-публичным и своим индивидуальным отношением к Вертеру, но последний этого не понимает, полностью доверяя лишь частному письму, лишь из него черпая не только утешение, но и признание своей правоты. Напротив, фиктивный издатель романа резко подчеркивает разрыв между общественной и частной сферой, замечая, что чувствует себя не вправе придать гласности содержание столь личного письма министра[213].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна"
Книги похожие на "Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дирк Кемпер - Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна"
Отзывы читателей о книге "Гёте и проблема индивидуальности в культуре эпохи модерна", комментарии и мнения людей о произведении.