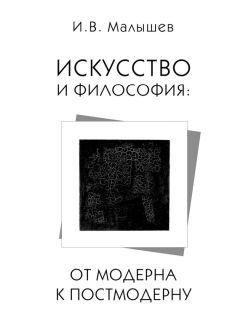Сборник статей - «Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского"
Описание и краткое содержание "«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского" читать бесплатно онлайн.
Сборник посвящен 80-летию Александра Борисовича Пеньковского, многогранная научная деятельность которого обнимает многие области языкознания и филологии, от диалектологии и фонетики до семантики наречий, художественной антропонимики, словаря Пушкина и Пушкинской эпохи. Разнообразие проблематики публикуемых статей отражает широту научных интересов юбиляра. Ею же продиктовано структурно-тематическое членение разделов: слово и смысл, изучение художественного текста и поэтика, семиотика и герменевтика, грамматика и семантика, фонетика и диалектология. Книга в целом представляет широкий диапазон авторских концепций, многие из которых, по признанию самих авторов, были стимулированы работами и докладами А.Б.Пеньковского.
В соответствии с пожеланием авторов тексты статей публикуются в авторской редакции.
Итак, составители словаря, понапрасну отказавшись от «онегинского» примера, взяли две «вторичных» цитаты, авторы которых сами отталкивались от пушкинского текста.
Единогласие лексикографы проявили только в области этимологии: словечко поди / пади все академические словари считают фонетическим преобразованием повелительного наклонения глагола пойти (с реализацией безударного [о] в [а] в зоне южно– и средневеликорусского аканья). Этот робкий консенсус попытался нарушить В. В. Виноградов. Мы можем предположить, что в выходившем под его редакцией «Словаре языка Пушкина» справки о происхождении слова пади нет по причине расхождения ученого с господствующей концепцией: по его мнению, пади представляет собой императив глагола пасть, полностью утративший свое исходное значение и превратившийся в междометие. В посмертно опубликованной заметке об этом слове исследователь, вскользь упомянув (но не назвав прямо) некие «языковые факты, засвидетельствованные на протяжении веков достоверными показаниями» [Виноградов 1994: 442], привел цитату из романа И. И. Лажечникова «Басурман» (ч. II, гл. 3), где якобы изложены «историко-бытовые основы» возникновения окрика пади:
У краснова крыльца стоялъ тапканъ (крытая, зимняя повозка)[78] (…) Когда усадили Ивана Васильевича въ тапканъ, который можно было познать за великокняжеской по двуглавому орлу, прибитому къ передку, нѣсколько боярскихъ дѣтей поѣхало верхомъ впередъ, съ возгласомъ: пади! пади! (…) Лишь()только слышался громкой возгласъ: пади! всё, что шло по улицѣ, въ тотъ-же мигь скидало шапки и падало наземь. – Этотъ раболѣпный обычай, сказалъ Аристотель своему молодому товарищу, перешолъ сюда со многими подобными отъ Татаръ. Владычество ихъ въѣлось сильною ржавчиной въ нравы здѣшніе, и долго Русскимъ не стереть ея [Лажечников 1838: 76–78; ср. Виноградов 1994: 442].
Можно вспомнить еще одну цитату из Лажечникова, где нашли отражение его представления о происхождении возгласа пади!". «Воловьи и подъѣзжіе извощики то-и-дѣло шныряютъ около шстинаго двора съ отзывомъ Татарскихъ временъ: пади! пади!» [Лажечников 1835: 41]. Роман «Ледяной дом», из которого взята цитата (ч. II, гл. 1) Пушкин читал очень вдумчиво, с большим вниманием к историческим и филологическим деталям.[79] Тем не менее знакомство с данным фрагментом «Ледяного дома» никак не отозвалось в тексте «Онегина» 1837 г.
Виноградов полагал, что «форейторское и кучерское междометие пади! ставшее криком предостережения и утратившее уже к концу XVIII в. свой глагольно– реальный смысл», «с 30—40-х годов XIX в. (…) представлялось лишь изысканно– экспрессивным пережитком, театральным эмоциональным выкриком, – совсем утратившим свое первоначальное значение» [Виноградов 1994: 443]. В доказательство исследователь выписал ряд примеров, где восклицание пади! не вызывает никаких ассоциаций с глаголом пасть. Ср. у И. И. Панаева в повести «Онагр» (гл. VII):
Однажды (это было въ первыхъ числахъ марта) онагръ ѣхалъ по Гороховой– Улицѣ, а офицеръ съ серебряными эполетами перебѣгалъ черезъ дорогу…
– Пáди! закричалъ ему кучеръ онагра.
Офицеръ обернулся.
– А, мон-шеръ, это ты! Же ву салю. Чуть не задавилъ меня… Постой на минутку… [Панаев 1841: 56].
У него же в очерке «Внук русского миллионера» герой купил коня,
для того, чтобы весь шродъ кричалъ, что у него первый рысакъ и чтобы прохожіе по Невскому разѣвали рты отъ удивленія, когда онъ летаетъ на немъ, сломя голову, а кучеръ его, какъ безумный(,) кричитъ во все горло: «пади! пади!» Все это, батюшка, дѣлается изъ тщеславія [Панаев 1858: 122].
У А. И. Левитова в «Фигурах и тропах о московской жизни» (1865):
– Па-а-дди пр-роччь! ревнулъ на меня съ высоты кóзелъ блестящей кареты чудовище-кучеръ, толстый, откормленный и съ бородой, превосходящею всякое описаніе. Па-а-дди, ддьяв-ва-алъ! [Левитов 1865: 634].
Выводы В. В. Виноградова полностью приняты в статье «Падú!», опубликованной в «Онегинской энциклопедии» [Невский 2004]. Однако интерпретация собранных Виноградовым материалов легко может быть оспорена: его примеры свидетельствуют, скорее, не о том, что восклицание пади! со временем «становилось все более пустым, архаическим» [Виноградов 1994: 443], а о том, что оно употреблялось в соответствии со своей подлинной внутренней формой – в значении «пойди прочь, отойди». Вот еще несколько красноречивых примеров. Пади кричат извозчики у А. А. Бестужева (Марлинского) в повести «Испытание» (гл. II) и в рассказе «Страшное гаданье»:
(…) дымящаяся тройка шагомъ пробиралась между тысячами возовъ и пѣшеходовъ, a ухарскій извощикъ, заломивъ шапку на бекрень, стоя возглашалъ «пади, пади!» на обѣ стороны (…) [Марлинский 1830, № XXIX: 134].
Уже было темно, когда мы выѣхали со двора, однакожъ улица кипѣла народомъ (…) Молодецъ извощикъ мой, стоя въ заголовкѣ саней, гордо покрикивалъ пади! и охорашиваясь кланялся тѣмъ, которые узнавали его, очень доволенъ слыша за собою: «Вонъ нашъ Алёха катить! Куда соколъ собрался?» и тому подобное [Марлинский 1831, № 5: 41].
Ср. в «Тарантасе» В. А. Соллогуба (гл. XVII):
Въ эту минуту, лихая тройка стрѣлой пронеслась мимо Ивана Васильевича. Ямщикъ, весело помахивая кнутомъ, кричалъ «пади», стоя на облучкѣ и подмигивая улыбавшимся ему изъ оконъ красавицамъ. Въ телегѣ сидѣлъ какой-то старенькій шсподинъ, въ сѣрой шинели съ краснымъ воротникомъ и въ форменной фуражкѣ [Соллогуб 1845: 231].
У Н. А. Некрасова и Н. Станицкого (псевдоним А. Я. Панаевой) в романе «Три страны света» (ч. I, гл. V):
Сани, дрожки, кареты, коляски, курьерскія тележки тащатся и летятъ своимъ порядкомъ, брызгая грязью; но храбрѣйшіе пѣшеходы отважно мелькаютъ между лошадьми, не смущаясь потрясающими криками кучеровъ (…) Вдругь раздался женскій визгъ, слившійся съ крикомъ «пади, пади» [Некрасов, Станицкий 1848–1849, № 10: 236].
В воспоминаниях А. М. Достоевского:
Изредка, раза два в месяц, скромная улица Божедомки оглашалась криком форейтора «Пади! Пади! Пади!..» и в чистый двор Мариинской больницы въезжала двуместная карета цугом в четыре лошади и с лакеем на запятках и останавливалась около крыльца нашей квартиры; это приезжали: тетенька Александра Федоровна и бабенька Ольга Яковлевна [Достоевский 1930: 34].
В упомянутой Набоковым [Nabokov 1964: 70] «Истории вчерашнего дня» Л. Н. Толстого (1851):
Было катанье на масляницѣ; сани парами, четвернями, кареты, рысаки, шелковые салопы – всѣ тянулись цѣпью по Кіевской, – пѣшеходовъ кучи. Вдругь крикъ съ поперечной улицы: «держи, эй, держи лошадь то! Пади, эй!» самоувѣреннымъ голосо[мъ]. Невольно пѣшеходы посторонились, пары и четверни придержали. Чтожъ вы думаете? Оборванный извощикъ, стоючи на избитыхъ санишкахъ, размахивая надъ головой концами возжей, на скверной клячѣ съ криком продралъ на другую сторону, покуда никто не опомнился [Толстой 1928, 1: 286].
Восклицание пади / поди могло комбинироваться не только с императивом берегись,[80] но и с другими глагольными формами: задавлю, раздавлю (общее значение фразы: «посторонись, а не то задавлю»). Ср. в «Комедии о Фроле Скабееве» Д. В. Аверкиева:
(За сценой бубенцы и свистъ, тройка катить.) (…)
Голосъ возника (за сценой.)
Пади! Пади! Раздавлю! Пади!
Лычиковъ (за сценой.)
Стой, стой, говорю!
Голосъ возника (также.)
Не сдержать, разскакались!
Лычиковъ.
А ты держи! Возникъ на то!
(Слышны крики: тпру и проч., какъ останавливаютъ лошадей.)
Фролъ.
Экъ разогнали – сдержать не могутъ!» [Аверкиев 1869: 9]
У M. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) в очерке «Что такое „ташкентцы“?» из цикла «Господа ташкентцы»:
Я вижу людей, работающихъ въ пользу идей несомнѣнно скверныхъ и поганыхъ, и сопровождающихъ эту работу возгласомъ: пади! задавлю! и вижу людей, работающихь въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, и тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: пади! задавлю! Я не вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы упразднять дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить [Щедрин 1869: 194].
Наконец, императив пади / поди оказывается синонимичным восклицаниям с обстоятельственными конструкциями типа в сторону, к стороне (общее значение фразы: «отойди в сторону»). Так, в переводе I тома романа Л-C. Мерсье «Картина Парижа», сделанном А. А. Нартовым, французский кучерский окрик gare! «берегись» (императив от garer «укрывать, отводить в сторону»; ср. se garer «сторониться»), передается как пади! икъ сторонѣ:
Что дѣлать? Лучше слушать, когда кричать, пади! пади! или къ сторонѣ! къ сторонѣ![81] Но наши молодые фаетоны, велятъ кричать слугамъ позади кабрюлетовъ. Господинъ опрокидаетъ тебя, слуга кричитъ послѣ изо всего горла, и съ мостовой встаетъ тотъ, кто можетъ [Мерсье 1786: 107].[82]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского"
Книги похожие на "«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Сборник статей - «Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского"
Отзывы читателей о книге "«Слово – чистое веселье…»: Сборник статей в честь А. Б. Пеньковского", комментарии и мнения людей о произведении.