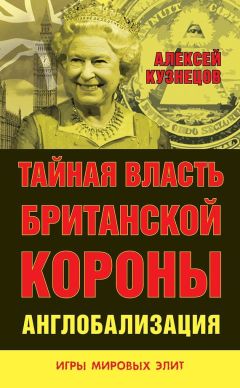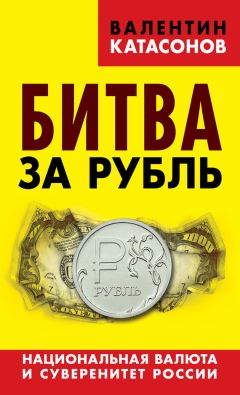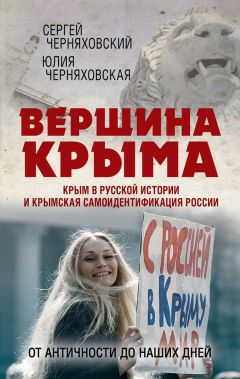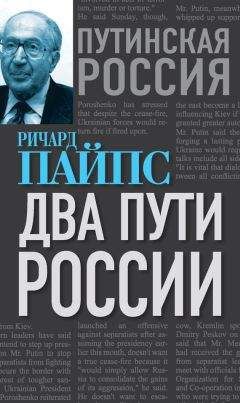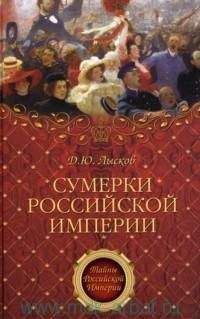Вадим Цымбурский - Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков
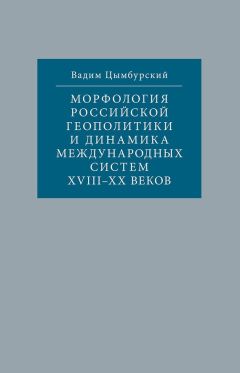
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков"
Описание и краткое содержание "Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков" читать бесплатно онлайн.
Капитальный труд известного российского ученого, одного из создателей современной российской политологии, Вадима Леонидовича Цымбурского (1957–2009) посвящен исследованию возникновения и развития отечественной геополитической мысли последних трех веков нашей истории. На страницах этого opus magnum подробно изложена теория и история геополитики, вопросы цивилизационной гео– и хронополитики, цивилизационного строения современного мира.
Своей центральной задачей автор поставил пересмотр традиционных представлений о России как геополитическом субъекте, существующем в парадигме западничества и славянофильства.
В.Л. Цымбурский, исходя из разработанной им концепции, описывает циклы взаимодействия Европы – России – Азии и дает прогноз дальнейшего развития событий на территории евразийского континента.
Книга будет интересна научным работникам, аспирантам, студентам и всем интересующимся историей и практикой геополитики.
В этом цикле, как и в предыдущем, ход D отчасти перекрывается с евразийской интермедией. Его признаками, наряду с событиями 1923 г., можно считать упрочение в первой половине 1920-х «санитарного кордона», где создаются румыно-польский союз и югославско-румынско-чехословацкая Малая Антанта, а также заседания конференции в Локарно (1925 г.), посвященные коллективному отбрасыванию большевизма. Как и в годы после Парижского мира Россия по сути оказывается вне системы европейского баланса, что тогда способствовало возвышению Второго, а теперь – Третьего северогерманских рейхов.
Преддверием второго хода Е, или новой евразийской интермедии, было установление в те же годы советской власти в среднеазиатской части прежней Империи, а также сокрушение по ходу гражданской войны армии Р.Ф. Унгерна фон Штернберга в Монголии, где с 1921 г. действовало промосковское Народное правительство. В полную силу этот ход проявляется с 1924 г. Он отмечен крушением троцкизма с его ставкой на европейскую революцию и возобладанием курса на строительство социализма в одной стране, точнее в трех, вместе с Монголией и формально еще суверенной Тувой; интеграцией Средней Азии в СССР и ее национально-государственным межеванием, переплетшимся с войной против басмачества; строительством Турксиба; странной тибетской авантюрой ГПУ в середине 1920-х, недавно реконструированной в книге О. Шишкина [Шишкин 1999]; поддержкой в 1925–1927 гг. китайской революции, позднее содействием гоминьдановскому правительству в войне с Японией; битвами на исходе 1930-х с японцами по советско-манчжурской и по монгольско-китайской границам; попытками тогда же создать в Восточном Туркестане уйгурское государство под московской эгидой [Хлюпин 1999].
Наконец, цикл III открывается в собственно советскую эпоху, то ли сходя на нет с ее завершением, то ли находя своеобразное продолжение – или имитацию – в политических исканиях вычленившейся Российской Федерации.
На протяжении 1930-х сталинское руководство не только твердит о близости новой европейской войны, но и пытается обрести для себя место в новом силовом раскладе западного мира. После неудачного опыта 1934 г. по заключению с Францией и «кордонными» государствами антигерманского Восточного пакта, перед фактом поглощения Третьим рейхом Австрии и Чехословакии Сталин решается солидаризироваться с нацистским Берлином в разрушении «версальской» Европы и созидании «нового порядка». Пактом Молотова-Риббентропа открывается ход А нового цикла. Апрельское соглашение 1941 г. с Японией о нейтралитете точно так же закрепляло очередную геостратегическую перефокусировку России, как когда-то в 1907 г. большое урегулирование между этими державами в пору оформления Антанты.
За последние 10 лет среди российских историков не прекращаются споры о политическом смысле этого периода, отчасти катализированные скандальными публикациями В. Суворова-Резуна, но едва ли не в большей степени – изданием архивных и мемуарных материалов, относящихся к визиту Молотова в Берлин в ноябре 1940 г. и к выступлению Сталина 5 мая 1941 г. перед выпускниками военных академий [Безыменский 1991; 1995. Поездка 1993. Бережков 1993. Вишлев 1998; 1999]. При наличии в этой области массы дискуссионных моментов, есть факты неоспоримые. Поделив с Германией вторую Речь Посполитую в ее предвоенных границах, аннексировав летом 1940 г. Прибалтику, тогда же приобретя Бессарабию – прямо по стопам Петербургской монархии в ее «тильзитские» годы – и не по вине берлинского партнера не сумев себе вернуть также и Финляндию, сталинский СССР вплотную сходится с Европой «нового порядка». Какое-то время он выступает стратегическим тылом Третьего рейха в войне на западе – отсюда и англо-французские планы начала 1940 г., предполагавшие удар со стороны Ближнего Востока по нефтяным месторождениям Кавказа [Челышев 1999, 245 и сл.]. Но надлом этого хода определился страшно быстро и совершенно в стиле «посттильзитского» сценария начала XIX в. Заявляя слишком настойчивую заинтересованность в обустройстве Юго-Восточной Европы, Балкан и Черноморских проливов, по-видимому, также и Балтики, включая выход из нее в Северное море [Риббентроп 1992, 304, 310], Сталин тревожил очередного «властелина Европы» и представал в его глазах «последней надеждой Англии», где Черчилль с конца 1939 г. не уставал констатировать объективное существование на европейском входе Восточного фронта по новой советско-германской границе [Фест 1993, III, 230 и сл. Тейлор 1995, 403].
Наступлением Третьего рейха на Россию стремительно обозначается ход В, когда стали реальностью те «битвы на Волге», о которых Александр I за 130 лет до того риторически писал Бернадоту.
Как и в циклах более ранних изживание этого кризиса само собою запускает ход С: СССР простирает свое могущество на запад, отмечая свое наступление насаждением коммунистических режимов на восточноевропейских лимитрофах, включением важнейшей части Восточной Пруссии в российские границы, разделом Германии и системой Варшавского пакта. Хотя Сталину, при всех стараниях, не посчастливилось после войны радикально ревизовать режим Босфора и Дарданелл, тем не менее, в последующие десятилетия советский флот, согласно с конвенцией Монтрё и невзирая на вхождение Турции в НАТО, постоянно маячил в Средиземноморье. А с 1950-х тяжба СССР с Западом за преимущественное влияние в арабском мире выступает своеобразным продолжением старого «Восточного» вопроса. Если учесть сохранявшийся Берлинский вопрос, оказывавшийся в руках Москвы инструментом давления на Западную Германию, а также и общий фактор «советских танков в стольких-то днях пути от Ла-Манша», то Ялтинскую систему следует расценить как второй реальный «европейский максимум» российской геостратегии со времен Николая I, – поскольку промежуточный, коминтерновский «европейский максимум» начала 1920-х оказался нереализованным, абортивным.
Приметы затяжного хода D прослеживаются через 1980-е и 1990-е. В начале этого отрезка имеем большую стабилизацию Запада после революционного клокотания 1960-х и вьетнамского синдрома «разрядочных» 1970-х. Имело бы смысл вспомнить – предыдущие фазы D с крутым отбрасыванием России на восток также приходились на стабилизационные 1850-е и 1920-е десятилетия, когда западные нации восстанавливались после революционного и военного потрясения устоев. Основные вехи данного хода общеизвестны. Это размещение «Першингов» в Европе; сенсационная программа СОИ; подешевение нефти, сужавшее возможности советского руководства; доктрина «нового мышления» и крепнущая в годы перестройки склонность отечественных лидеров и экспертов отождествлять ее «новизну» с переосмыслением государственных интересов России-СССР в духе максимального сокращения внешних обязательств… А затем – восточноевропейские революции 1989 г., конец организации Варшавского Договора и Совета Экономической Взаимопомощи, торопливый дрейф советских, а затем российских войск из Европы, перекрывающийся с суверенизацией республик СССР и, наконец, с роспуском самого Союза. Тот же ход охватывает начавшееся расширение НАТО к востоку, временное отпадение Чечни от России, обернувшееся войной на Северном Кавказе, антироссийские резолюции по чеченскому вопросу Политической Ассамблеи Совета Европы и Комитета по безопасности ООН в 2000 г.
Можно ли говорить о начале третьего хода Е, или евразийской интермедии, в российской истории? Если говорить о российском идеологическом процессе 1990-х, то он изобилует настойчивой проработкой и проговариванием различных вариантов «евразийского» самоопределения сжавшейся страны – от призывов Жириновского к «последнему броску на юг» взамен «бросков на запад» до уверений Е.Т. Гайдара насчет обязанности новой России вместо тягот «мирового жандарма» взять на себя обязанности «форпоста демократии в Евразии» (Известия 18.05.1995). Очертания нового хода иногда усматривают в провозглашении российско-китайского «стратегического партнерства» и в т. н. «доктрине Примакова», предполагающей охватить этим партнерством также и Индию [Лунев 1999, 223, 226]. А также в «бишкекском процессе» сотрудничества России с околокитайскими республиками постсоветской Центральной Азии, наметившемся под конец президентства Б.Н. Ельцина, после того, как косовские события 1999 г. предельно ясно обнаружили минимизацию российского влияния в Европе, не только Западной, но также Центральной и Юго-Восточной. В какой-то мере такие оценки подкрепляет визит президента В.В. Путина после инаугурации в Ташкент и Ашхабад, в особенности его ташкентские беседы с И.А. Каримовым насчет «южной дуги нестабильности» и совместного российско-узбекского силового отпора ее вызовам и угрозам. И все-таки третья евразийская интермедия пока что остается ясно проступающей и вполне актуальной возможностью, не более того, и от российского руководства начала XXI в. будет зависеть, осуществится ли эта возможность и в какой версии.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков"
Книги похожие на "Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вадим Цымбурский - Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков"
Отзывы читателей о книге "Морфология российской геополитики и динамика международных систем XVIII-XX веков", комментарии и мнения людей о произведении.