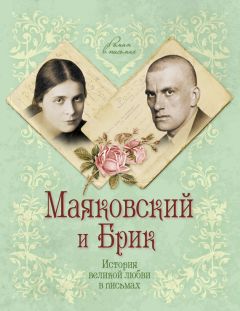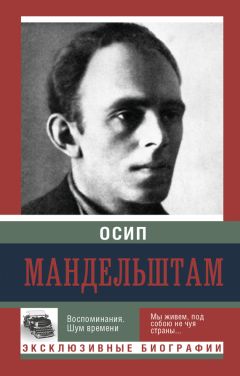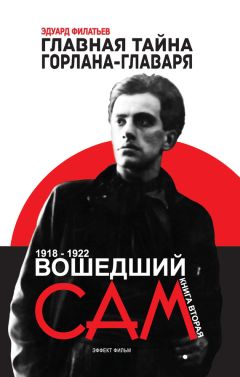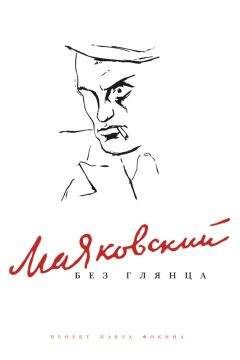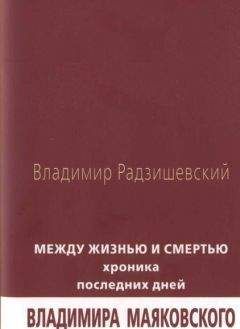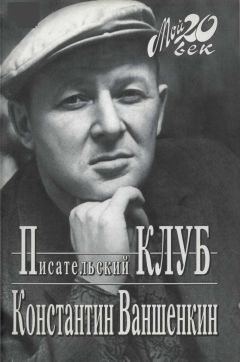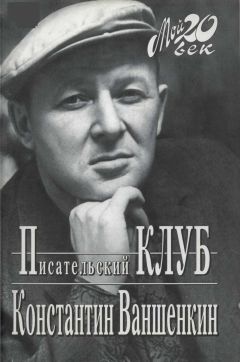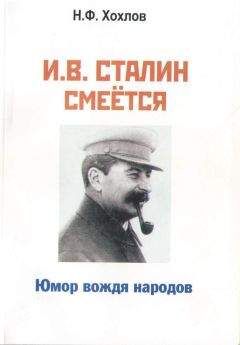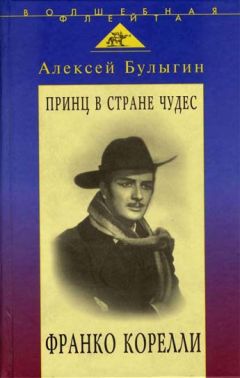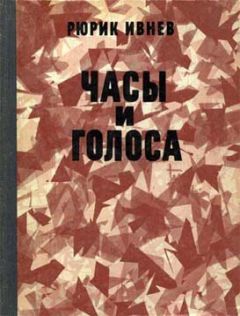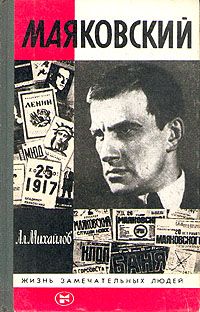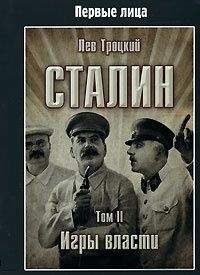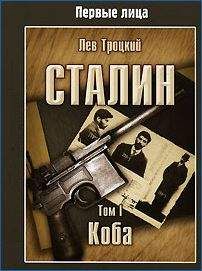Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам
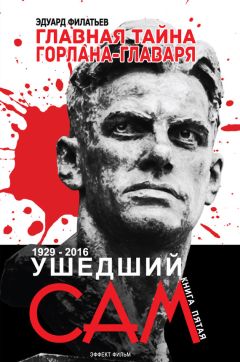
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам"
Описание и краткое содержание "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам" читать бесплатно онлайн.
О Маяковском писали многие. Его поэму «150 000 000» Ленин назвал «вычурной и штукарской». Троцкий считал, что «сатира Маяковского бегла и поверхностна». Сталин заявил, что считает его «лучшим и талантливейшим поэтом нашей Советской эпохи».
Сам Маяковский, обращаясь к нам (то есть к «товарищам-потомкам») шутливо произнёс, что «жил-де такой певец кипячёной и ярый враг воды сырой». И добавил уже всерьёз: «Я сам расскажу о времени и о себе». Обратим внимание, рассказ о времени поставлен на первое место. Потому что время, в котором творил поэт, творило человеческие судьбы.
Маяковский нам ничего не рассказал. Не успел. За него это сделали его современники.
В документальном цикле «Главная тайна горлана-главаря» предпринята попытка взглянуть на «поэта революции» взглядом, не замутнённым предвзятостями, традициями и высказываниями вождей. Стоило к рассказу о времени, в котором жил стихотворец, добавить воспоминания тех, кто знал поэта, как неожиданно возник совершенно иной образ Владимира Маяковского, поэта, гражданина страны Советов и просто человека.
Отдавая должное прозорливости и проницательности Скорятина, заметим всё-таки, что никаких особых «метаний» у Маяковского тогда не было. Да, на предновогоднем вечере он был замкнутым и хмурым, но что в этом такого? Да, на юбилейной выставке он выглядел чересчур усталым и одиноким, но с кем подобного не бывает? Ведь уже на конференции МАППа Владимир Владимирович был как всегда подтянутым и энергичным! К тому же ОГПУ никогда и никого не «опекало» – ей подобное занятие было просто не свойственно. Что же касается «переговоров», которые якобы вёл с поэтом Лев Эльберт, то и про них тоже можно сказать, что со своими сотрудниками никаких переговоров Лубянка никогда не вела, а просто отдавала приказы, которые следовало неукоснительно выполнять.
А в отношении того, что Маяковский якобы становился «опасно неуправляемым», сразу возникает вопрос: «опасным» для кого?
Для страны?
Для партии?
Просто для окружающих?
Практически все дошедшие до наших дней документальные свидетельства говорят о том, что никакой опасности ни для кого Маяковский не представлял. Кроме, разумеется, Бриков и Агранова, которых он так безжалостно высмеял в «Бане», а премьера спектакля по этой пьесе стремительно приближалась.
Валентин Скорятин обратил внимание и на такой удивительный факт:
«…ни Лавут, ни Гринкруг в своих воспоминаниях не называют Эльберта. То ли ни разу в Гендриковом его не заставали, то ли заставали, но умолчали о встречах с ним по той же причине, по которой многие мемуаристы долгие годы не называли имя другого персонажа из окружения поэта – ЯАгранова».
Как бы там ни было, но вопрос остаётся: чем же всё-таки занимался в Гендриковом переулке Лев Гилярович?
На этот вопрос так и тянет ответить вопросом: а чем же ещё может заниматься террорист-гепеушник, как не подготовкой к очередной операции?
Эльберт этим и занимался. Готовил к новой поездке за рубеж агента ОГПУ Владимира Маяковского.
30 апреля 1930 года в двенадцатом номере журнала «Огонёк» появилась статья Эльберта «Краткие данные». В ней рассказывалось о некоторых событиях из жизни Маяковского, свидетелем которых оказался Лев Гилярович. Он привёл некоторые высказывания поэта, в том числе и откровенно «ревнивые», в которых Владимир Владимирович завидовал более удачливым коллегам-гепеушникам:
«Ужасно мне жалко, что не мы украли Кутепова, – чистое предприятие! Люблю славу – пусть она боится нас. Вдруг сопрём Кияппа. Как полагаете, нужен нам Кияпп, при деньгах, конечно?»
Кто такой Кияпп, и зачем надо было его «красть», станет ясно, если полистать газеты той поры. 30 марта «Комсомольская правда» поместила карикатуру на лысоватого мужчину с крючковатым носом, а рядом – заметку-пояснение:
«Кияпп, начальник парижской полиции, выступил на днях с вызывающим антисоветским заявлением, в котором указывал, что „Россия издевается над нами“. Кияпп – злейший враг революционного движения и один из авторов пресловутого „плана Зет“ (план "защиты "Парижа от революции)».
В том же марте и журнал «Огонёк» поместил статью о Кияппе:
«Кияпп, префект парижской полиции – корсиканец по родителям и по профессии. Он маленького роста, подвижен, он – скептик, циник, он любезен той особой полицейской любезностью, которая внезапно и коварно взрывается мордобитием, тщится быть остроумным, католик и антибольшевик…
После дела Кутепова вас прогонят из полиции, господин Кияпп».
Приведя в своей книге эти две фразы, Валентин Скорятин добавил:
«И после этих строк, из которых так и рвётся торжество победителя в январской схватке с префектом, следует подпись: „Л.Э.“ Он же, как легко догадаться, Лев Эльберт».
Вот, стало быть, какого Кияппа собирался «спереть» Владимир Маяковский. Говоря при этом Эльберту:
«Ужасно не хочу войны! Если случится – приду с чекой в Париж, знаю состав этого города. Буду полезен».
Иными словами, поэт во время своих продолжительных «сидений» в столице Франции изучал «состав этого города»? На случай грядущей революции. Готовясь вслед за красноармейцами войти «с чекой» в Париж и заняться чисткой его «состава».
В свете этих высказываний Маяковского совсем иначе воспринимается уже цитировавшийся нами его ответ на вопрос о целях приезда в Варшаву в 1927 году:
«Познакомиться с людьми, посмотреть город…»
Так и тянет добавить: «и как можно лучше узнать его "состав "».
Сразу вспоминается другой поэт, который незадолго до смерти написал:
«И долго буду тем любезен я народу,
что чувства добрые я лирой пробуждал».
А наш герой в аналогичной ситуации заявил:
«Буду полезен чеке, так как знаю "состав "этого города».
Что тут можно сказать? Только повторить мудрое изречение древних латинян: cuique suum (каждому – своё)!
Продолжая расследовать версию о мести, которую намеревался совершить Агранов, логично предположить, что «одинокого» Маяковского должны были окружать соглядатаи, расставленные Яковом Сауловичем. И каждый из них должен был выполнять свою задачу.
Кто же мог сообщать в ОГПУ о каждом шаге «одинокого» поэта? Этими соглядатаями вполне могли быть и Павел Лавут, и домработница, которая вела хозяйство в квартире в Гендриковом переулке, и шофёр, возивший поэта по Москве, и кто-то из соседей Маяковского в доме по Лубянскому проезду, и Евгения Соколова (гражданская жена Осипа Брика), и неожиданно появившийся в Москве Лев Гринкруг, и Владимир Сутырин и даже Верника Полонская. Каждого из них Яков Агранов мог очень по-дружески попросить сообщать ему о Владимире Владимировиче, чтобы тем самым помочь ему, если вдруг возникнут какие-то проблемы. В этой «заботе» трудно найти что-то из ряда вон выходящее.
У Льва Эльберта роль, видимо, была намного серьёзнее.
Тем временем репетиции «Бани» в ГосТИМе стремительно приближались к завершению.
Накануне премьеры
Актриса Мария Суханова, участвовавшая в «Бане», вспоминала:
«Маяковского не всегда удовлетворяло актёрское исполнение – так он был недоволен актёром в роли Бельведонского и часто влезал на сцену, читал и показывал. И даже сам хотел играть эту роль.
Но кого он играл великолепно – это мистера Понт Кича! В тексте этой роли – набор русских слов: «Ай, Иван в дверь ревел, а звери обедали» – и т. д., но в читке Маяковского это был вылитый англичанин и по манере держаться и по выговору».
3 марта 1930 года «Литературная газета» опубликовала беседу своего сотрудника с Маяковским, который сказал, что премьера спектакля состоится на следующей неделе, и что во всех шести его действиях будет происходить борьба:
«…борьба между изобретателем Чудаковым и главначпупсом…
… борьба за театральную агитацию, за театральную пропаганду, за театральные массы…
… борьба с узостью, с делячеством, с бюрократизмом – за героизм, за темп, за социалистические перспективы».
Однако провал ленинградского спектакля, видимо, сыграл негативную роль, и 9 марта «Правда» перепечатала статью критика-рапповца Владимира Ермилова, опубликованную ранее в журнале «На литературном посту». Мы уже говорили о ней – статья называлась «О настроениях мелкобуржуазной "левизны" в художественной литературе». Перепечатка вряд ли была случайной, и произвели её явно по чьей-то указке. Павел Лавут:
«В статье освещались общие проблемы драматургии – речь шла главным образом о пьесах Безыменского и Сельвинского, поставленных Мейерхольдом. Вскользь там критиковалась „Баня“, которую Ермилов полностью не читал (к этому времени была опубликована лишь часть пьесы), что он предусмотрительно оговорил. Маяковскому было отведено в обзоре скромное место».
Но, несмотря на «скромность» уделённого Маяковскому места, приговор его пьесе выносился довольно суровый:
«…вся фигура Победоносикова вообще является нестерпимо фальшивой. Такой чистый, гладкий, совершенно „безукоризненный“ бюрократ… вообще невероятно схематичен и неправдоподобен, а тем более в навязанном ему Маяковским обличии перерожденца с боевым большевистским прошлым, – а ведь пьеса Маяковского претендует к тому же и на зарисовку типичных общих явлений».
Саму «победоносиковщину» (как явление) Ермилов объявлял чересчур преувеличенной автором. Мало этого, в статье говорилось, что в творчестве Маяковского зазвучала…
«…очень фальшивая „левая“ нота, уже знакомая нам не по художественной литературе».
А это было уже прямое обвинение в троцкизме. И бросались эти обвинения поэту, надо полагать, со стороны всё того же Якова Агранова.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам"
Книги похожие на "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эдуард Филатьев - Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам"
Отзывы читателей о книге "Главная тайна горлана-главаря. Ушедший сам", комментарии и мнения людей о произведении.