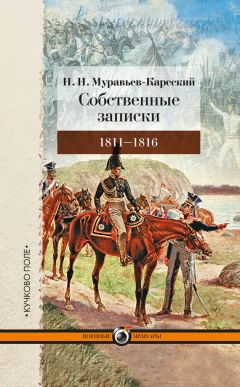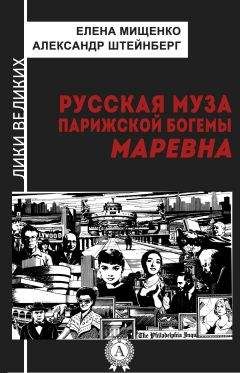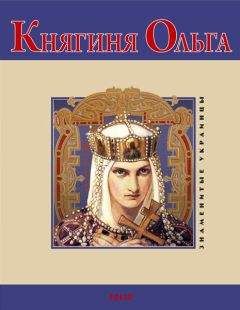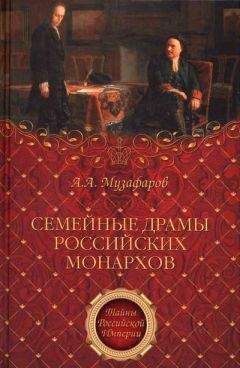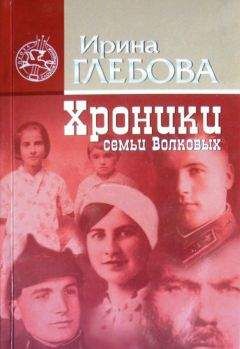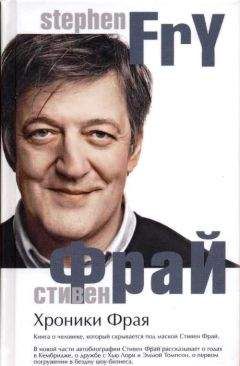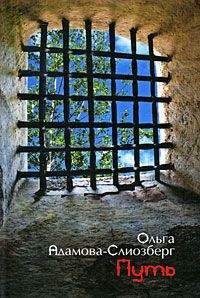Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи"
Описание и краткое содержание "Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи" читать бесплатно онлайн.
Ольга Матич (р. 1940) – русская американка из семьи старых эмигрантов. Ее двоюродный дед со стороны матери – политический деятель и писатель Василий Шульгин, двоюродная бабушка – художница Елена Киселева, любимица Репина. Родной дед Александр Билимович, один из первых русских экономистов, применявших математический метод, был членом «Особого совещания» у Деникина. Отец по «воле случая» в тринадцать лет попал в Белую армию и вместе с ней уехал за границу. «Семейные хроники», первая часть воспоминаний, охватывают историю семьи (и ей близких людей), начиная с прадедов. «Воля случая» является одним из лейтмотивов записок, поэтому вторая часть называется «Случайные встречи». Они в основном посвящены отношениям автора с русскими писателями – В. Аксеновым, Б. Ахмадулиной, С. Довлатовым, П. Короленко, Э. Лимоновым, Б. Окуджавой, Д. Приговым, А. Синявским, С. Соколовым и Т. Толстой… О. Матич – специалист по русской литературе и культуре, профессор Калифорнийского университета в Беркли.
В Сан-Франциско жила старшая дочь Столыпина, Мария фон Бок, с которой дед был знаком и которую часто навещал, однажды взяв с собой меня. Старушка жила в маленькой подвальной квартирке. Пока они беседовали, я рассматривала ее семейные фотографии, густо развешанные на стене; разумеется, на почетном месте висел снимок отца. У меня остались ее письма к деду и ее «Воспоминания о моем отце П. А. Столыпине» (1953) с дарственной надписью по старой орфографии: «Глубокоуважаемому Профессору Александру Дмитрiевичу Билимовичу съ благодарностью отъ автора». В этой книге тоже много дедушкиных пометок на полях, но без критики. У сестры деда я познакомилась с правнуком Столыпина, Гериком Ренненкампфом, которого помогала воспитывать все та же Мария Петровна фон Бок.
В Сан-Франциско он участвовал в русской общественной жизни, читал лекции в Русском центре – например, на праздновании столетия отмены крепостного права и на Дне русского ребенка. Его главным культурно-просветительским детищем была Русская Матица, которую он основал еще в 1924 году в Любляне, после чего русские Матицы (по образцу других славянских Матиц, в разные времена существовавших за границей) появились и в Сербии, и в Хорватии. Их главной задачей было сохранение в эмиграции русской культуры и национальной идентичности, а в деятельность входили воспитание детей, организация лекций, концертов и театральных представлений, издательские проекты и прежде всего – создание библиотеки, выписывавшей все русские новинки, в том числе из Советского Союза. Мама любила рассказывать, как однажды библиотекарь принес бабушке Алле литературную новинку – «Зависть» Юрия Олеши, та открыла книгу и прочла первую фразу: «Он поет по утрам в клозете». Тогда эта фраза казалась неприличной. Библиотекарь смутился и, извинившись, сказал, что все перепутал, что хотел отнести «Зависть» кому-то другому.
«Два идиота». Е. В. Спекторский и А. Д. Билимович. Любляна (конец 1930-х)
Дед был первым председателем люблянской Матицы; его сменил профессор Е. В. Спекторский, правовед и социальный философ, переехавший в Любляну из Белграда, где преподавал в университете. Они с дедом подружились еще в Киеве; Спекторский был последним свободно избранным (в 1918 году) ректором Киевского университета[170]. (На обороте фотографии деда и Спекторского в Любляне мама написала: «два идиота».) В некрологе дед пишет об эмигрантской «травле замалчивания» Спекторского – «травле глубокого ученого, имеющего несчастье быть не созвучным тем, кто обладает издательскими возможностями»; имелось в виду, что Спекторский критиковал «ложных новаторов», то есть тех, кто поддавался последней моде. При этом дед с иронией отзывается о любви Спекторского к цитированию: «Однажды я шутя предложил Евгению Васильевичу… написать что-нибудь, не приведя ни одной цитаты. Евгений Васильевич, смеясь, сказал: „Зачем я буду говорить сам, если я могу заставить излагать мои мысли Платона или Аристотеля? Я предпочитаю не быть одиноким, а находиться в хорошем обществе“»[171].
Паломничество в часовню Св. Владимира. Словенские Альпы (начало 1930-х)
Каждое лето Матица устраивала паломничество в русскую часовню Св. Владимира в словенских Альпах, где во время Первой мировой войны русские военнопленные строили шоссе для связи австрийцев с итальянским фронтом. Заодно они построили часовню, на которую дед с бабушкой Аллой, ставшие в Словении страстными альпинистами, случайно набрели. Часовня была полуразвалившейся, и Матица собрала деньги на ее реставрацию; теперь это туристический объект. Мы с отцом и моим будущим мужем Владимиром Матичем побывали в этой часовне в 1965 году, когда папа впервые после Второй мировой оказался в Югославии. Для него часовня представляла место памяти. Оказалось, что в ней сохранилась икона, написанная женой Антона Билимовича, художницей Еленой Киселевой.
Благотворительная деятельность деда в Калифорнии сосредоточилась на «Просветительно-благотворительном фонде имени Ивана Васильевича Кулаева», помогавшем русским студентам-эмигрантам. (Кулаев был миллионером-промышленником, работавшим сначала в Сибири, затем в Харбине; в конце 1920-х годов он перебрался оттуда в Калифорнию[172].) Дед почти до конца жизни состоял его казначеем, а секретарем его в те годы был известный электроинженер А. М. Понятов, директор компании Ampex, производившей, в частности, качественные магнитофоны и выпустившей первый видеомагнитофон (1956). В название компании вошли инициалы ее создателя и первые буквы слова «experimental» (экспериментальный); его дом, по словам дедушки, был оборудован множеством электронных приспособлений, а дверь гаража открывалась нажатием кнопки: в 1950-е годы это было большим новшеством.
После того как я поступила в UCLA, мы с дедом стали много спорить о политике: у меня были либеральные взгляды, он их отвергал и всячески протестовал против любых сопоставлений дореволюционной России с советской. Тогда я уже читала Бердяева и соглашалась со многими его соображениями, о чем и сообщала деду. Под влиянием моих университетских друзей я стала по-другому относиться к Марксу и изводила деда положительными оценками некоторых марксистских установок. Еще я защищала хрущевскую «оттепель», а он нападал на Хрущева, и, разумеется, была неблагосклонна к республиканцам, а он наоборот: республиканцы, считал он, вели менее податливую политику по отношению к Советскому Союзу, чем демократы. Слава Богу, дед умер до появления в моей жизни коммуниста Владимира Матича. Он бы из-за этого очень переживал и, думаю, повел себя не так, как мои родители, которые не только приняли Владимира, но и полюбили его.
* * *Работа над этой главой в итоге обернулась сожалением. С одной стороны, меня обрадовало обилие материала о дедушке, найденного в библиотеках и особенно в Интернете, иногда – совсем неожиданного (вроде рецензии на Франка), с другой – я поняла, как мало о нем знаю. Пока он был жив, я не слишком пыталась вникнуть в суть его личности – молодость есть скольжение по поверхности, а в памяти нередко остаются лишь смешные истории. Последнее письмо ко мне дедушка написал 21 июля 1963 года. В нем он поздравляет меня с именинами, но главное не это. Он пишет о предстоящей ему операции желудка, назначенной именно на день моих именин: «Как-то помимо моей воли судьба направила меня к операции. Как говорили римляне: fata volentem ducunt, nolentem trahunt (судьбы желающего ведут, а не желающего тянут). Фраза Сенеки. Ты, милая, только не волнуйся за меня. Тебе и Твоему дитяти волнение противопоказуется. Я уже прожил столько лет, что ни я сам не сочту ничто неожиданным, ни вы все не должны волноваться по поводу меня». Моя дочь родилась 17 августа, а дед умер в конце декабря.
Переводя латинское высказывание на русский и называя автора, он и перед смертью учил меня, как учил, пока я была девочкой и подростком. Осознание этого не только восстанавливает в моей памяти дедушкин образ, но и вызывает во мне самые теплые чувства и сожаление о том, что я так мало говорила с ним о самом главном в его жизни и моей, что не высказывала ему восхищения его стойкостью, несмотря на все перипетии. Но эти качества я полностью осознала только при написании этой главы.
Бабушка, или Нина Ивановна Гуаданини
У меня в гостиной висит большой портрет бабушки – увеличенная фотография 1907 года, на которой запечатлена красивая шестнадцатилетняя девушка, загадочной полуулыбкой напоминающая «Мону Лизу». Она сидит на балконе тамбовского имения; пышные, длинные, ниже пояса, русые волосы распущены. Бабушка любила вспоминать, как ее няня, расчесывая эти волосы, плевала на них, приговаривая, что волос от слюны крепнет. Когда она умерла и дедушка отсылал старые фотографии ее сестре, я попросила оставить мне эту, мою любимую. Несмотря на то что она не была мне родной бабушкой, ее портрет стал для меня одним из объектов семейной памяти, своего рода memento mori детства. Своей родной бабушки я не знала, а неродную очень любила.
Нина Ивановна Гуаданини (1891–1966) родилась в богатой помещичьей семье: у ее отца было больше двух с половиной тысяч десятин земли в Тамбовском и Борисоглебском уездах, конный завод, дом в Тамбове. Помню, как бабушка, в прошлом лошадница, с гордостью рассказывала о том, что их лошадь победила на скачках. Рассказывала она и об имении около Сочи, о котором я недавно нашла информацию в Интернете: построенная в 1908 году дача Гуаданини теперь называется санаторий «Юг».
Введя имя итальянского деда бабушки в поисковую систему, я получила неожиданные сведения об Алессандро Гуаданини, который, по ее словам, был архитектором из Северной Италии и приехал в Россию на заработки в первой половине XIX века. В «Записках графа М. Д. Бутурлина» (они были начаты в 1867 году, а полностью опубликованы лишь тридцать с лишним лет спустя) Гуаданини называется художником-портретистом родом из Неаполя[173]. Мемуары Бутурлина есть в нашей университетской библиотеке, но, не случись этой чудесной виртуальной находки, мне бы и в голову не пришло в них заглянуть.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи"
Книги похожие на "Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ольга Матич - Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи"
Отзывы читателей о книге "Записки русской американки. Семейные хроники и случайные встречи", комментарии и мнения людей о произведении.