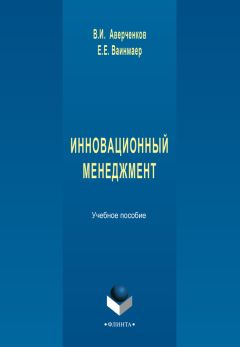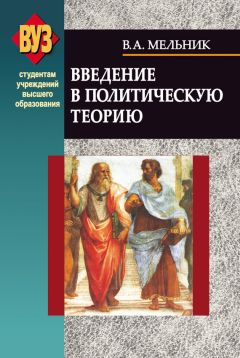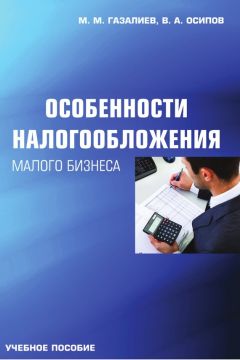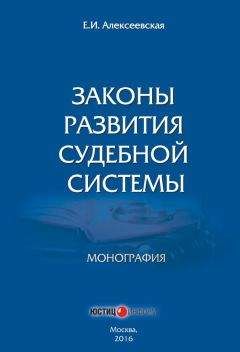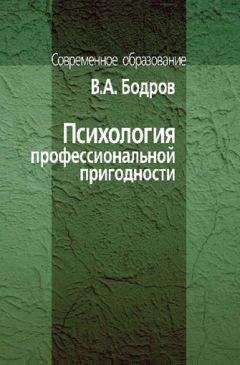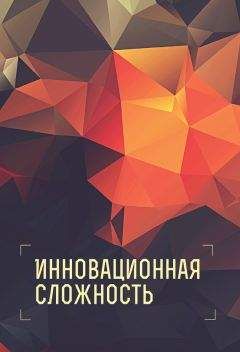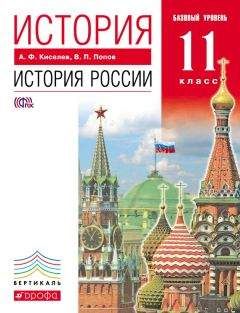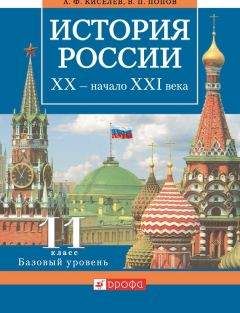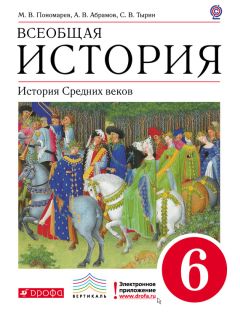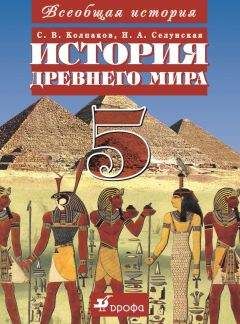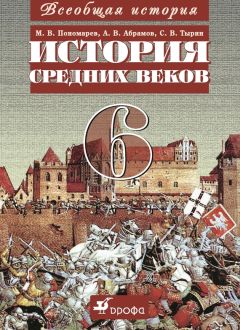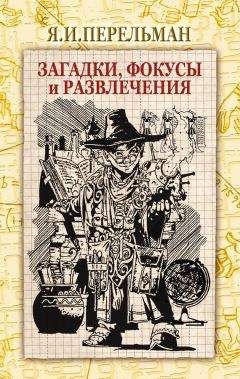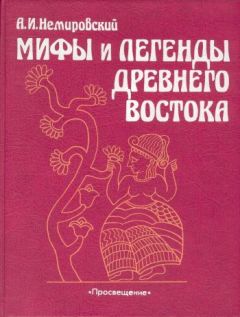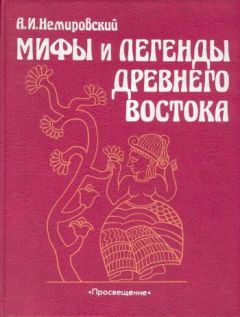Роман Почекаев - Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в.
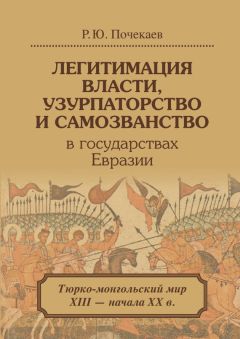
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в."
Описание и краткое содержание "Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в." читать бесплатно онлайн.
В книге рассматриваются факторы легитимации власти в тюрко-монгольских государствах Евразии, начиная с империи Чингис-хана в первой половине XIII в. и заканчивая последними попытками создания независимых ханств в Центральной Азии уже в первой половине ХХ в., а также проблема узурпаторства и самозванства в этих государствах. На основе анализа многочисленных конкретных примеров автор определяет общие тенденции и основные факторы борьбы за власть, ее методы и приемы, прослеживает эволюцию этих факторов на разных этапах политико-правового развития тюрко-монгольских государств, способы правового обоснования узурпаторами и самозванцами своих претензий на верховную власть (некоторые из них до сих пор используются в политической борьбе в странах Среднего Востока и Центральной Азии).
Книга предназначена для историков государства и права, историков и востоковедов, специалистов по политологии и политической антропологии, а также для студентов, обучающихся этим специальностям.
Соответственно, статус ногайских правителей в Дешт-и Кипчаке постоянно возрастал: со временем потомков Идигу стали именовать не просто биями, а улу-биями, т. е. великими князьями, или даже титулом «бий-хазрат», довольно удачно переводимым русскими толмачами как «княжое величество» (см.: [Трепавлов, 2000, с. 359]). Имеются основания полагать, что ногайские правители претендовали на статус ханских соправителей и в Казанском ханстве [Мустакимов, 2009, с. 188–189]. Однако они так и не смогли в полной мере использовать свое мнимое происхождение от мусульманского святого (а позднее и реальное родство с почитаемыми мусульманскими религиозными деятелями) для закрепления за собой ханского титула и были вынуждены продолжать практику возведения марионеточных ханов, которые в русских источниках нередко именовались «ногайскими ханами».
Таким образом, хотя ногайские правители и использовали религиозный фактор в качестве обоснования своей власти, до середины XVI в. они оставались «вписанными» в чингисидскую систему политико-правовых отношений, поддерживая различных претендентов на трон из «золотого рода» и становясь при них бекляри-беками. Эта практика имела два важных следствия. Во-первых, не противопоставляя себя другим постордынским государствам как чуждое, базирующееся на других основаниях, Ногайская Орда получила возможность вмешиваться в дела различных чингисидских улусов – от Большой Орды и Крымского ханства на западе до Синей Орды (в «государствах кочевых узбеков») и Казахского ханства на востоке. Во-вторых, статус бекляри-беков создавал определенные гарантии политической устойчивости ногайских биев. Приобретая его, они, с одной стороны, были защищены от обвинений со стороны Чингисидов в посягательстве на верховную власть, а с другой – имели определенное преимущество и перед собственными родственниками – ногайскими мурзами, которые, происходя (как и бии) от Баба-Туклеса, формально имели те же права на трон Мангытского юрта, но не будучи беклярибеками кого-либо из ханов лишались некоторых преимуществ в борьбе за этот трон.[82]
Думаем, во многом это связано с особенностями религиозной ситуации в Улусе Джучи: хотя ислам и стал его официальной государственной религией, многие регионы в течение долгих веков отличались «религиозным индифферентизмом». Поэтому претендентам на власть, опиравшимся на религиозный фактор, приходилось комбинировать его с некоторыми чингисидскими политико-правовыми средствами, в свою очередь опиравшимися на старинные, еще доимперские, традиции управления и права кочевых племен Евразии, а потому более привычные, доступные и убедительные для кочевых подданных «новых» монархов. Несколько иная ситуация сложилась в восточной части бывшего Чагатайского улуса, где претенденты на власть, также ссылавшиеся на происхождение от мусульманских святых, смогли иначе использовать религиозный фактор борьбы за власть.
Из святителей в монархи: кашгарские ходжи в борьбе за светскую власть. Активная исламизация Могулистана (также именуемого в источниках и исследованиях Кашгарией, или Восточным Туркестаном) началась еще в середине XIV в., ее принято связывать с приходом к власти первого могулистанского хана Тоглук-Тимура. Имея спорные права на трон (см. гл. 9 наст. изд.), этот хан был вынужден привлекать на свою сторону самые разные круги населения Могулистана, в том числе и духовенство, а сделать это можно было лишь демонстрируя собственное рвение в распространении ислама. Соответственно, и Тоглук-Тимур вошел в историю как даже не просто ревностный, а прямо-таки жестокий поборник ислама в Могулистане [Абу-Гази, 1996, с. 91–93; Мирза Хайдар, 1996, с. 29–31] (см. также: [Бартольд, 1943, с. 66; Караев, 1995, с. 50; Пищулина, 1977, с. 47]). Неудивительно, что позиции мусульманского духовенства в восточной части Чагатайского улуса существенно укрепились, и это послужило причиной притока и других его представителей в этот регион.
В первой половине XVI в. весьма почитаемым в Бухаре шейхом являлся один из руководителей ордена Накшбандийя – Ахмад ал-Касани по прозвищу Махдум-и Азам, возводивший свое происхождение к шиитским имамам, потомкам халифа Али и, соответственно, к самому пророку Мухаммаду (см., напр.: [Молотова, 2013, с. 38]). Его сыновья Мухаммад-Амин (по прозвищу Ходжа-и Калан, или Ишан-и Калан) и Мухаммад Исхак-Вали прибыли в Кашгарию и после ряда неудач добились высокого статуса при дворе местных ханов – потомков Тоглук-Тимура [Валиханов, 1986б, с. 137]. Так, если могущественный Абд ал-Карим-хан еще изгонял ходжу Мухаммада Исхак-Вали из своих владений, то уже его брат и преемник Мухаммад-хан не только позволил ходже вернуться, но и объявил себя самого его мюридом [Kashghari, 1897, р. 33] (см. также: [Юдин, 1987, с. 7]). Потомство Мухаммад-Амин-ходжи получило в кашгарской историко-религиозной традиции название «белогорских ходжей», или просто «белогорцев» (актаглык), тогда как потомки Мухаммада Исхак-Вали стали именоваться, соответственно, «черногорскими ходжами», или «черногорцами» (каратаглык). Между ними началось соперничество за влияние, в результате чего местное население, включая и членов ханского семейства, разделилось на приверженцев обеих «партий», и вскоре приверженность к «белогорцам» или «черногорцам» стала служить поводом для междоусобиц в Кашгарии (см., напр.: [Kim, 2004, р. 14]).
Около 1670 г. на трон вступил хан Исмаил, считавшийся приверженцем черногорских ходжей, поэтому он начал репрессии против их соперников и вскоре изгнал из страны белогорского ходжу Хидаяталлаха, более известного под именем Аппак-ходжи. Изгнанник не смирился со своим положением и начал борьбу за возвращение в Кашгарию, которая возымела довольно неожиданные последствия. В поисках могущественного покровителя Аппак-ходжа обратился не к мусульманским государям и даже не к другим авторитетным представителям мусульманского духовенства (вероятно, убоявшись, что они, видя в нем конкурента, могли отказаться помогать ему), а… к Далай-ламе V – главе буддийской церкви! И что еще более удивительно, последний не только благожелательно отнесся к нему, но и отправил к своему «паладину» – джунгарскому Галдану Бошугту-хану, – дав сопроводительное письмо, в котором писал:
Хан! Аппак – великая личность, которую Исмаил изгнал из Кашгара. Вам надлежит послать войска, чтобы восстановить его положение! [Kashgpari, 1897, р. 36] (см. также: [Кычанов, 1980, с. 62; Чимитдоржиев, 1979, с. 16; Zarcone, 1996, р. 332–338]).
В результате ок. 1678 г. войска буддийского правителя Галдана вторглись в Кашгарию, хан Исмаил был свергнут и увезен пленником в Джунгарию, а на трон возведен сам Аппак-ходжа, не имевший никакого отношения к династии Чингисидов,[83] однако пользовавшийся большим авторитетом в силу своего происхождения и положения в ордене Накшбандийя [Kashgpari, 1897, р. 36] (см. также: [Валиханов, 1986б, с. 138; Златкин, 1964, с. 167; Кычанов, 1980, с. 64, 66; Чимитдоржиев, 1979, с. 16–17; Thum, 2012a]).
Воцарение Аппака, естественно, было вызовом чингисидской традиции, однако вполне вписывалось в политическую ситуацию – кризис власти Чингисидов, упадок их авторитета в глазах подданных и увеличение числа факторов легитимации власти, позволявших представителям нечингисидских родов претендовать на ханский трон. Таким образом, происхождение от халифа Али и высокий духовный авторитет сделали возможным воцарение Аппак-ходжи – влиятельного представителя мусульманского духовенства. Вместе с тем следует учитывать и позицию его покровителя – джунгарского Галдана Бошугту-хана, который, стремясь установить собственный контроль над Кашгарией, но не будучи Чингисидом,[84] не счел целесообразным возвести на кашгарский трон потомка Чингис-хана, имевшего, согласно тюрко-монгольским политическим традициям, более высокое происхождение, нежели сам хан Джунгарии. Соответственно, Аппак в его глазах выглядел более подходящим претендентом, поскольку опирался на серьезный фактор легитимации – религиозный авторитет, но не будучи связан с Чингисидами, не мог претендовать на более высокое положение, чем сам Галдан.[85]
Вместе с тем, бросив вызов чингисидской традиции, Аппак поначалу, видимо, не считал религиозный фактор легитимации, на который он опирался, достаточно серьезным противовесом происхождению от Чингис-хана. Только этим соображением можно объяснить, что вскоре после своего воцарения он добровольно сложил с себя светскую власть и возвел на трон Мухаммад-Амина – племянника свергнутого Исмаил-хана, а сам взял в жены его сестру Падшах-ханым.[86] По прошествии некоторого времени новый хан решил совершить поход против ойратов, причем победил их, захватив до 30 тыс. пленных, в том числе и несколько влиятельных джунгарских вождей. Трудно сказать, что побудило хана, который и на троне держался не очень прочно и контролировал даже не всю Кашгарию (в ряде владений независимо правили его родичи), выступить против могущественного Джунгарского ханства. Скорее всего, его подстрекнул к этому Аппак-ходжа,[87] который надеялся, что хан в результате этого мероприятия либо потерпит поражение, либо вызовет гнев ойратов, тем самым еще более ослабив и без того пошатнувшийся авторитет Чингисидов в Могулистане. Когда же этого не произошло, ходжа поднял своих сторонников против Мухаммад-Амина, который был вынужден бежать из Яркенда и вскоре погиб, убитый одним из собственных приближенных [Валиханов, 1986б, с. 138; Kashghari, 1897, р. 37, 41].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в."
Книги похожие на "Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Роман Почекаев - Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в."
Отзывы читателей о книге "Легитимация власти, узурпаторство и самозванство в государствах Евразии. Тюрко-монгольский мир XIII – начала ХХ в.", комментарии и мнения людей о произведении.