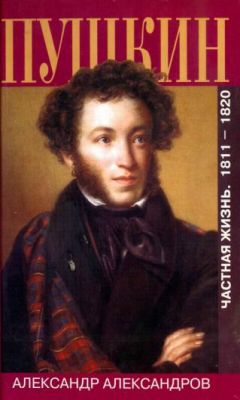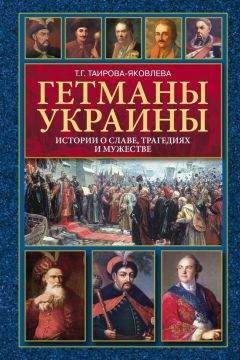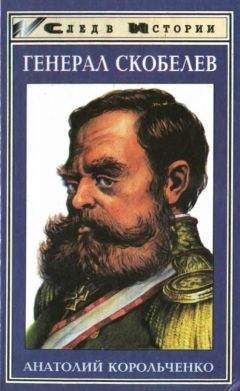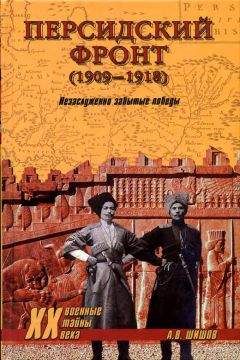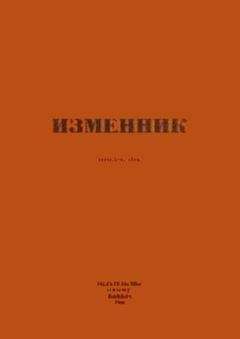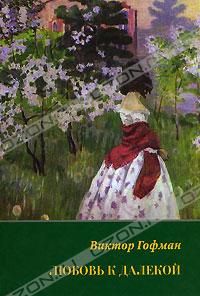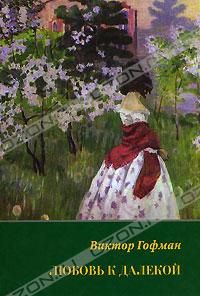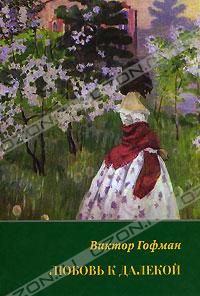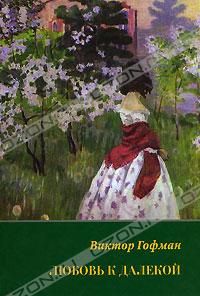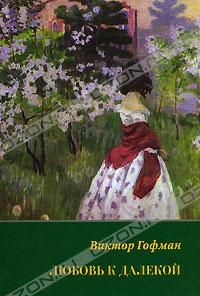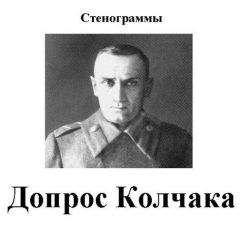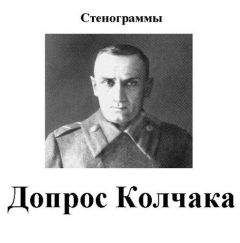Виктор Меркушев - Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм
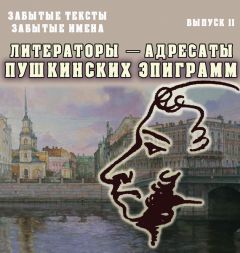
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм"
Описание и краткое содержание "Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм" читать бесплатно онлайн.
Поэзия и проза этих литераторов практически забыта, равно как и они сами. Кто-то из них вполне честно заслужил забвение, а с кем-то судьба обошлась жестоко и несправедливо. Однако их имена, скорее всего, останутся в истории русской литературы навечно. По крайней мере, в эпиграммах Пушкина им обеспечена долгая и интересная жизнь.
Могло ль не подействовать на высокую душу Сперанского столь искреннее излияние знакомой ему души. После этих разительных строк старые друзья имели частые свидания, но последние для них в юдоли плача, где не всегда сердце сердцу весть даёт.
Если в предыдущих очерках сколько-нибудь удалось нам представить читателям нашим Магницкого, каким он был на закате дней своих, то нетрудно будет им угадать – каковым соделала его сила Божия в борьбе со смер-тию. Покойный заболел от простуды в ненастную и бурную погоду, сокрушившую на нашей гавани мореходные суда. Он затворился дома, но не слёг; лечил себя домашними лекарствами, и три дня спустя, в угодность озабоченной супруге своей, пригласил к себе просвещённого врача, который, с первого взгляда заметив в больном признаки воспаления в груди, настоятельно потребовал кровопускания. Но, увы, напрасны были все убеждения: больной отказывался от средства, никогда в жизни им неиспытанного, и, как бы торопясь в далёкий, безвозвратный путь, решительно отклонил от себя чашу земного бытия. Болезнь усилилась; внутренние лекарства не помогали; больной страдал без малейшей жалобы или стона, страдал и помышлял о вечности. Нас, друзей своих, принимал он с обычным радушием, с изумительным присутствием духа, не изменявшим ему ни на минуту. Беседуя однажды при мне с другим посетителем, больной указал на меня, я промолвил: «Вот, за кого боюсь, когда А.С. заходит ко мне в дурную погоду». Ноября 19-го, после страдальческой ночи, больной начертил слабевшею рукою духовному отцу своему следующие строки: «Лобзаю отеческую руку за возношение любви; но так как прошлая ночь была очень дурна и кашель может усилиться; то я желал бы завтрашний день пораньше или сегодня вечером исповедаться, а после завтрашней литургии приобщиться, и потому желал бы условиться о часах и приличных экипажах, которые будут готовы». Всё совершилось по желанию сердца сокрушённого и смиренного, жаждавшего вечной жизни. Тщетно окружавшие его, говоря о возможности выздоровления, напоминали ему о детях и внуках: собравшийся в путь раб Божий отклонял от себя суетные надежды, и в ответ тихим голосом повторял: «Нет, пора, пора!» Во вторник, 21-го ноября, почувствовав близость смерти, опять послал за духовником, который поспешил к нему и в продолжении двух с половиной часов непрестанно молился у постели его, совоздыхая верою и любовию к небесному Разрешителю всех уз греха и плоти, Господу Иисусу. Ровно в 6 часов вечера преставился раб Божий Михаил, – только 12-ю часами опередивший в вечности благодетеля своего, любвеобильного князя А. Н. Голицына…
Михаил Самсонович Рыбушкин
Бывало, прежних лет герой,
Окончив славну брань с противной стороной,
Повесит меч войны средь отческия кущи;
А трагик наш Бурун, скончав чернильный бой,
Повесил уши.
Если бы не выписывал Царскосельский лицей журнал «Сын отечества», то этой пушкинской эпиграммы не появилось бы вовсе. Лицеисты не только читали все периодические издания, поступавшие в их библиотеку, но и сотрудничали с ними, посылая туда свои первые литературные опыты.
Конечно, юный Пушкин не мог знать Ры-бушкина ни лично, ни заочно. Адресат насмешливой эпиграммы проживал в то время в Казани, а предстал он перед Пушкиным на страницах «Сына отечества» лишь в качестве автора трагедии «Иоанн, или взятие Казани», неуклюже отбивающимся от нападок критика своего сочинения. Неумение начинающего литератора достойно ответить настырному оппоненту вызвало у пятнадцатилетнего Пушкина ироническую миниатюру, в общем-то, достаточно беззлобную.
Будущий писатель и краевед так никогда и не узнал об этой пушкинской эпиграмме, но выводы из произошедшей «журнальной драки» сделал, вовсе перестав полемизировать в печати с рецензентами.
Впрочем, упомянутая трагедия была у Рыбушкина первой значительной пробой пера, впоследствии Михаил Самсонович заявит о себе не только как писатель, но и как поэт и историк, этнограф и издатель, краевед и педагог. Надо сказать, что Рыбушкин довольно-таки счастливо сочетал в своей деятельности занятие для заработка – педагогику, с занятием для души – литературой, вкупе с сопутствующими ей краеведением, историей и этнографией. А изданием первого в регионе частного журнала «Заволжский Муравей» он, вне всякого сомнения, вписал себя в историю культуры своего края.
Самым значительным произведением Ры-бушкина, пожалуй, является «История Казани», где он показал себя наблюдательным и дотошным исследователем. Он методично фиксировал в своём сочинении не только все городские события и деяния исторических лиц, повлиявших на судьбу Казани, но и описывал местные традиции, особенности быта, фиксировал социально-культурные типажи, подробно разбирал топографию города, не забывая отмечать все произошедшие в ней изменения. Значительная часть книги была посвящена нашествию Пугачёва, что не могло не заинтересовать Пушкина, работавшего над «Историей Пугачёвского бунта». Неизвестно, встречался ли Пушкин с Рыбушкиным в бытность свою в Казани в сентябре 1833 года, но его книга «История Казани» была в пушкинском собрании. По завершению своей работы Пушкин пошлёт её автору только что отпечатанный том «Пугачёва» со словами искренней благодарности за «любопытную историю о Казани». Ещё одну книгу он направит Александре Андреевне Фукс, жене врача, этнографа и краеведа Карла Фёдоровича Фукса, которого Пушкин навещал в Казани. Александра Андреевна была самым преданным сотрудником журнала «Заволжский Муравей», основанного Рыбушки-ным, и Александр Сергеевич, безусловно, не мог оставить такой факт без своего внимания и одобрения, будучи тонким ценителем книг и истовым поборником издательского дела.
«Заволжский Муравей». Выходящее дважды в месяц издание М. С. Рыбушкина
А к издательскому делу Рыбушкина подвигла не только его любовь к литературе и стремление педагога образовывать сограждан – ведь он всё-таки был преподавателем Казанского университета, и это обстоятельство не могло не повлиять на образ мыслей и характер поступков Михаила Самсоновича. Однако в то время, когда он исполнял обязанности Секретаря Отделения словесных наук, ему была предложена ещё одна почётная должность – управляющего Университетской типографией. Это случилось в конце 1830 года, а уже в 1832 году увидел свет первый выпуск периодического журнала «Заволжский Муравей». Девизом издания было двустишие:
За труд мой не ищу себе похвал и славы,
Люблю трудиться лишь для пользы иль забавы.
Девиз с головой выдаёт в Михаиле Самсо-новиче дилетанта первой трети девятнадцатого века. Дилетанта совсем не в том значении, в котором дилетант нам представляется теперь: как неумелый и смешной в своих претензиях на профессионализм любитель. Дилетант пушкинской поры был не только любящим своё занятие, – от латинского «любить» и образовано это слово, дилетант того времени был человеком весьма искушённым, технически очень хорошо «подкованным» в своём деле.
Дилетантизм тогда являлся своеобразным кодексом дворянского образования и воспитания. Детям из знатных семей, наряду с обязательным французским, на высоком образовательном уровне преподавалась живопись, музыка и словесность. Причём зачастую наставниками приглашались признанные в обществе и профессиональной среде мастера. Примеров здесь можно приводить множество, достаточно напомнить, что литературе будущего Императора Александра Второго обучал сам Василий Андреевич Жуковский.
Мы немного знаем о характере и личной жизни Михаила Рыбушкина. Нам известно, что после Казани в 1835 году он был назначен Директором училищ Астраханской губернии, а позже, в 1843 году – Директором Пензенских училищ. В связи с переездом в Астрахань прекратился выпуск его частного журнала, зато перед ним, как исследователем и краеведом, открылся совершенно новый, не менее благодатный и интересный материал. Человеком Рыбушкин был, конечно, очень своеобразным. Об этом можно судить по немногочисленным посвящениям и книжным автографам. И если бы Пушкин продолжал следить за Михаилом Самсоновичем, то дело не обошлось бы одной-единственной юношеской эпиграммой. Только вряд ли они были бы столь же беспощадны и жестоки как те, что адресовал Пушкин своим принципиальным противникам и врагам. Над Рыбушкиным можно было бы только беззлобно посмеяться, как над неловким и не в меру искренним человеком.
При составлении использованы отрывки из астраханского, второго издания книги:
М. Рыбушкин. Записки об Астрахани.
Изд. 2-е. Тип. А Штылько. Астрахань. 1912 г.
Публикуемый текст был приведён в соответствие с правилами современного русского языка.
ОтрывокПтолемей Александрийский, живший во II-м веке по P. X. и почитавшийся в своё время одним из лучших географов, пишет, что около реки Кубани, на пространстве обширных степей, обитал в древности народ Астурохани. В IV столетии на местах нынешней Астраханской губернии, между реками Доном и Волгою, жили Акациры, вероятно Козары. Столицею их владетелей был город Атель, что по мнению Сестенцевича и Карамзина, нынешняя Астрахань. В V веке появляются уже Ко-зары под сим их наименованием. В исходе VI века при устье Волги показывается город Ба-лангиар; под конец VII-го на степях Астраханских видны селитбы Хвалиссов, коим, как надобно думать, принадлежал и Балангиар. В исходе VIII века владения Хвалиссов распространяются далее, а на обширных степях от моря Каспийского до жилищ помянутого народа видны кочевья Узов. В IX веке Узы подвигаются далее к северу, а Хозары к югу; Балангиара же, или смытого водами Каспийского моря, или перенесённого на другое место, при устье Волги уже не видно. В XI и XII столетиях жилища Хвалиссов занимают место между реками Волгою и Яиком, примыка-ясь ближе к первой, но никаких селений при их устьях не находится.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм"
Книги похожие на "Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виктор Меркушев - Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм"
Отзывы читателей о книге "Забытые тексты, забытые имена. Выпуск 2. Литераторы – адресаты пушкинских эпиграмм", комментарии и мнения людей о произведении.