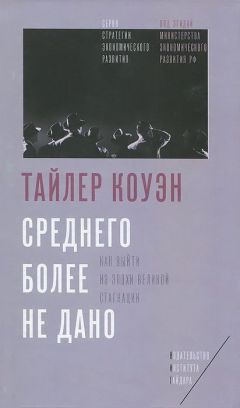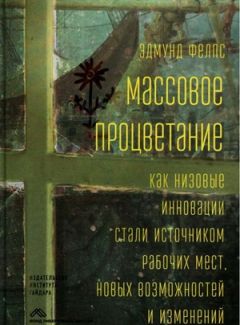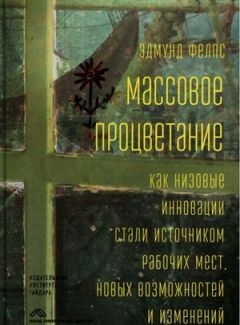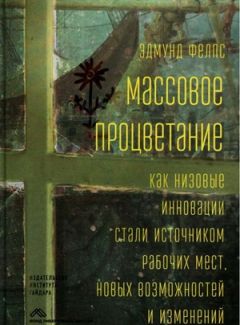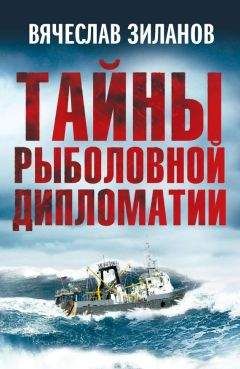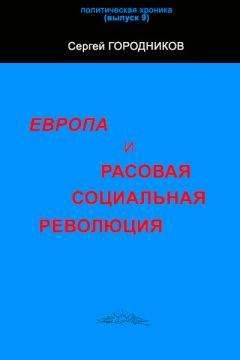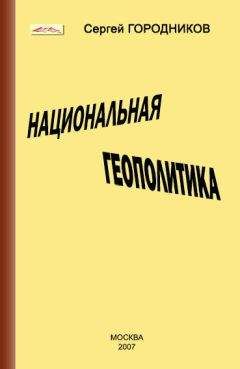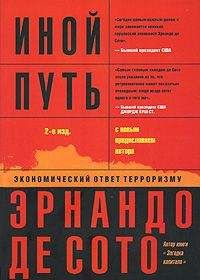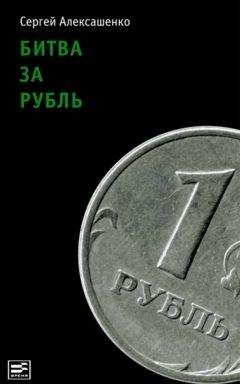Эдмунд Фелпс - Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений
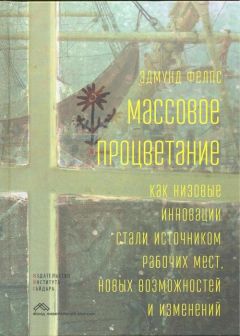
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений"
Описание и краткое содержание "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений" читать бесплатно онлайн.
В этой книге нобелевский лауреат Эдмунд Фелпс предлагает новый взгляд на причины "богатства народов". Почему в одних странах в 1820-1960-х годах наблюдался резкий рост благосостояния, сопровождавшийся ростом не только материального богатства, но и "процветанием" — осмысленным трудом, самовыражением и личностным ростом для большего числа людей, чем когда-либо прежде? Фелпс связывает это процветание с современными ценностями — желанием творить, создавать и исследовать что-то новое, справляться с возникающими трудностями. Эти ценности подпитывали низовой динамизм, который был необходимым условием для широких инноваций.
Однако в последние десятилетия подлинные инновации и процветание сдают свои позиции. Исследования показывают, что в Америке количество инноваций и степень удовлетворенности трудом снижались с конца 1960-х, а послевоенная Европа так и не смогла вернуться к былому динамизму. Причина этого, по Фелпсу, заключается в том, что современные ценности, лежащие в основе современной экономики, оказались под угрозой вследствие укрепления традиционных, корпоративистских ценностей, которые ставят государство и общество над индивидом. Судьба современных ценностей является сейчас самым насущным вопросом для Запада: смогут ли страны Запада вернуться к современности, низовому динамизму, подлинным инновациям и самореализации личности или же мы и дальше будем иметь дело с ограниченными инновациями и процветанием, доступным немногим?
Имелись ли свидетельства того, что в послевоенные десятилетия Германия и Италия отказались от своего корпоративизма и сформировали более современные институты, программы и культуры? Или же данные подтверждали сохранение, а может даже и обновление или усиление их корпоративизма? А что можно сказать о Британии и Франции? Или об Америке? Эти вопросы редко становились предметом исследования.
В Западной Европе в целом и в Германии в частности в первые послевоенные годы было проведено несколько экономических реформ в духе laissez-faire или неолиберализма, что стало радикальной переменой по сравнению с межвоенной корпоративистской политикой. Экономики европейского континента стали намного более открытыми для внешней торговли (сначала это была двухсторонняя торговля или бартер, а потом и многосторонняя торговля). Позже они открылись и для движения капитала, когда правительства лишились права удерживать частный капитал внутри национальных границ. А в конце концов они разрешили финансовым компаниям и фирмам конкурировать, невзирая на границы, в том числе и перемещать штаб-квартиры компаний в другие страны. (Большая часть соответствующей организационной работы была проведена в Европейской экономической комиссии, созданной, когда ФРГ, Франция, Италия и страны Бенилюкса основали Европейский союз.)
В Германии резкий поворот в политике начался с экономической реформы 1948 года, проходившей под руководством министра экономики Людвига Эрхарда. В соответствии с этой реформой, неолиберальные принципы, противоположные принципам корпоративистской модели, должны были быть воплощены в виде «социальной рыночной экономики» ФРГ, созданной в 1949 году. В своей книге 1957 года Wohlstand für Alle («Благосостояние для всех»), вышедшей в английском переводе под заглавием Prosperity through Competition («Процветание через конкуренцию»), Эрхард связывает почти двукратное увеличение национального продукта Западной Германии в 1949–1956 годах с возрождением конкуренции в экономике и восстановлением уверенности в том, что инфляция не отнимет у кредиторов их прибыли. Эрхард считал, что страна выиграла, отвергнув как корпоративистское стремление обойтись без индивидуальных стимулов, так и социалистическое стремление больше думать о распределении богатства, чем о том его уровне, которого можно достичь благодаря производительности.
Анализ Эрхарда (осознанно или неосознанно) исходит из того, что, когда в 1949 году производство в Германии снова выросло до уровня, соответствующего последнему мирному году (1936), восстанавливать больше уже было нечего, поэтому последующее удвоение производства следует объяснять ростом конкуренции и большим, чем в годы Гитлера, доверием, то есть новыми инвестициями и обусловленным ими приростом производительности. Не станем заострять внимание на том очевидном упущении, что на самом деле некоторые капитальные строения, такие как железнодорожные линии и фабрики, все еще могли нуждаться в восстановлении, так что в последующие годы производство все равно бы выросло независимо от роста конкуренции. Из-за гораздо более важного упущения вся Европа впала в заблуждение, решив, что она встала на путь вечного «устойчивого роста», как он толковался у Ростоу. Никто не понимал, что производительность на европейском континенте могла расти так быстро главным образом потому, что компании могли без особых затрат увеличить и ее, и собственные прибыли, отбирая, приспосабливая под свои нужды и внедряя новые товары и методы производства, которые уже были разработаны и распространены в Америке, в меньшей степени в Британии, а также в ряде других стран за пределами Европы в 1920-1930-е годы, но которые так и не были освоены в Европе из-за общественных потрясений и стремления корпоративизма к закрытой экономике. Для столь блестящего «догоняющего» роста неолиберальной конкуренции и уверенности было недостаточно: он стал возможен благодаря тем доступным технологиям, которые уже были опробованы другими по ту сторону Атлантики[129].
Вернулся ли корпоративизм после того, как все кирпичные стены и шпалы железнодорожных путей были восстановлены? Вернулся ли он после 1949 года? Если бы мы всерьез занялись здесь поиском статистики, позволяющей оценить степень возвращения корпоративизма, нам понадобился бы перечень показателей — по годам или по десятилетиям — силы корпоративизма, то есть, например, его влияния на политические и экономические программы. К этим показателям относятся различные виды государственного вмешательства в производство: объем регулирования (норм и правил), бюрократические «рогатки» (разрешения и т. д.), ограничения на вхождение в отрасли и профессии, «промышленная политика» и налогообложение. (Попутно можно заметить, что социализм больше беспокоился о том, как именно делались вещи, а не о том, что это были за вещи.) В другом комплексе показателей отражается перераспределение или контроль доходов: субсидируемое социальное страхование, «координация» уровня заработной платы отраслями или профсоюзами, снижение цен на акции как свидетельство ущемления государством имущественных прав акционеров, преобладание компаний-зомби, которые невозможно ни продать, ни закрыть. Высокая занятость в государственном секторе — еще один показатель, поскольку вмешательство в частный сектор требует кадров, которые будут им заниматься. Имеются также количественные показатели силы ценностей — желаний и убеждений, связанных с корпоративистским мышлением или противостоящих ему. (Многие из этих показателей силы корпоративизма используются в следующих двух главах для проверки тезисов, выдвигаемых от имени корпоративизма.)
Но в этой главе мы занимаемся историей, поэтому нам важны значительные события — пики и спады. Два процесса указывают на то, что корпоративизму не пришлось слишком долго дожидаться своего возвращения. Как пишет Абельсхаузер, во время кризиса, вызванного «корейским бумом» в Германии, «влиятельные секторы немецкой промышленности [начали] реформировать государственную корпоративистскую систему межвоенного периода» (ibid., р.308). Кооперация между различными ассоциациями производителей, возродившаяся в начале 1950-х годов, заставила вспомнить одного из исследователей о «хорошо зарекомендовавшей себя немецкой традиции <…> которая осталась практически невредимой после краха нацистской экономики и <…> реформы 1948 года»[130].
Другим процессом стало смещение власти между трудом и капиталом в рамках корпоративистской структуры. С одной стороны, корпоративизм приводит к слиянию правительства с бизнес-сектором, когда хозяйственная деятельность зависит главным образом от переговоров с правительством, а не от работы рыночных механизмов. С другой стороны, большое значение имеют отношения между правительством и профсоюзами. К концу 1960-х годов представительство труда в Европе заметно усилилось, в результате чего «трипартизм» («трехчастность») классической корпоративистской доктрины превратился в реальность, пришедшую на смену прежнему «бипартизму».
Одним из аспектов новой власти рабочего класса стали места в наблюдательных советах крупных компаний. В Германии это не было каким-то большим делом, потому что в ней всегда в той или иной степени сохранялась социалистическая враждебность к крупному бизнесу. Однако в 1990-х годах все зашло настолько далеко, что профсоюзам удалось получить места в инвестиционных комитетах. На этот раз немцы испугались. Возникли опасения, что такие перемены способны будут заблокировать выгодные инвестиции или планы компаний по проведению реформ, необходимых как для их выживания, так и для сохранения рабочих мест. Однако экономистам не о чем было беспокоиться. В 2005 году выяснилось, что Volkswagen, крупный немецкий автопроизводитель, на протяжении более чем десяти лет давал взятки представителям профсоюза.
В 1967 году министерство экономики превратило трипартизм в официальный курс, задействовав программу «Согласованных действий», которая усаживала за стол переговоров труд, капитал и государство. Хотя этот формальный трипартизм просуществовал только десять лет, неформальные трехсторонние отношения вылились в сотрудничество «либеральных» корпоративистов, представляющих как работодателей, так и профсоюзы. Схожий процесс создания трехсторонних структур развернулся в те же самые годы и в Италии. Именно тогда там стал использоваться термин «Tavolo di concertazione», обозначавший практику формального консультирования представителей труда, капитала и государства. Но были ли все эти трехсторонние структуры в континентальной Европе всего лишь пустыми словами или же они действительно оказывали определенное влияние?
У трехсторонних отношений были и свои выгодные моменты. Вассенаарские договоренности 1982 года, заключенные между профсоюзами и организациями работодателей в разгар экономического спада в Европе, открыли новую эпоху регулирования заработной платы и, по-видимому, способствовали созданию некоторого числа рабочих мест в Нидерландах. Неясно, правда, насколько прочными были эти результаты. Данные, собранные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показывают, что спустя два десятилетия, в 2004 году, уровень безработицы в Нидерландах был средним для стран ОЭСР — где-то между британским и американским уровнями, — тогда как показатели отработанного времени на одного работника были одними из самых низких. Следовательно, устойчивое влияние на рынок труда невооруженным глазом разглядеть невозможно. С другой стороны, благодаря увещеваниям канцлера Герхарда Шредера, представлявшего СДПГ, Германия провела в 2003 году переговоры по так называемой Повестке-2010 — ряду мер, направленных на сокращение затрат на заработную плату и повышение «гибкости» национального рынка труда. Снижение затрат на рабочую силу в бизнес-секторе продолжалось около десяти лет, и именно с ним главным образом связан бум немецкого экспорта в последние годы. Однако сегодня статистика рынка труда в Германии не выглядит особенно выдающейся. Уровень безработицы в Германии в последние годы типичен для Европы, если не брать высоких уровней в кризисных странах — Италии и Испании, а показатели отработанного времени на одного работника лишь немногим лучше, чем в Голландии или Норвегии. (Но безработица, возможно, ниже, чем могла бы быть.) Однако влияние корпоративизма, как формального, так и неформального, может простираться гораздо дальше регулирования заработной платы, как было показано выше.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений"
Книги похожие на "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Эдмунд Фелпс - Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений"
Отзывы читателей о книге "Массовое процветание. Как низовые инновации стали источником рабочих мест, новых возможностей и изменений", комментарии и мнения людей о произведении.