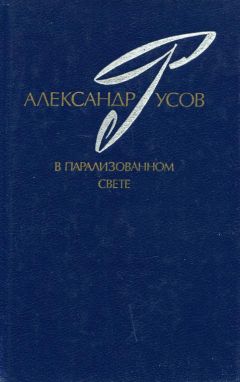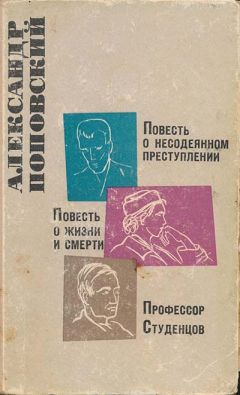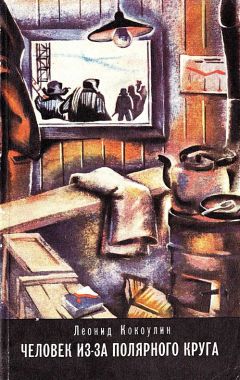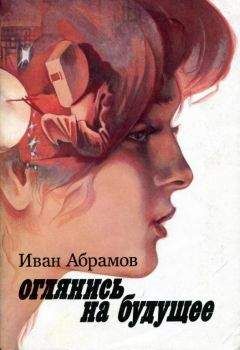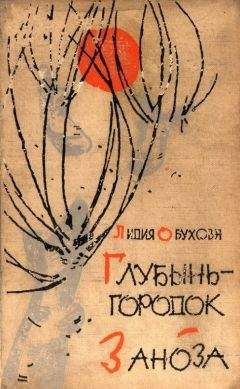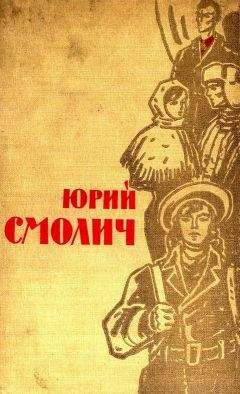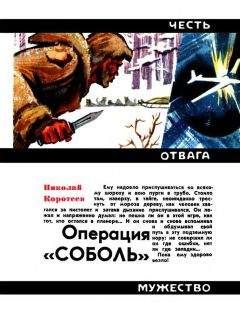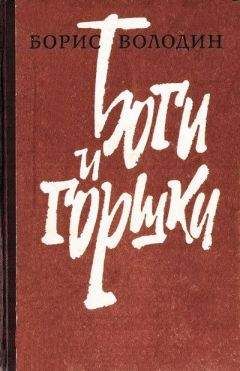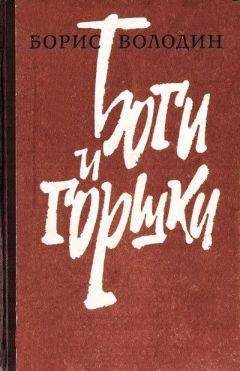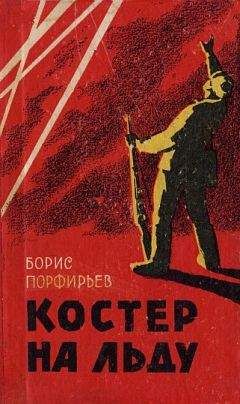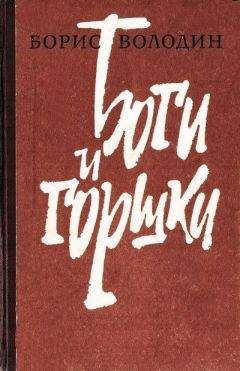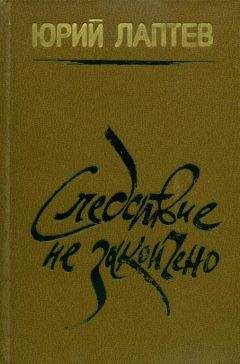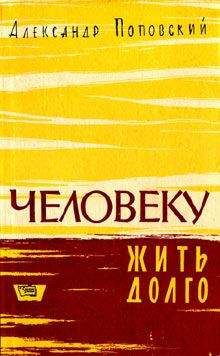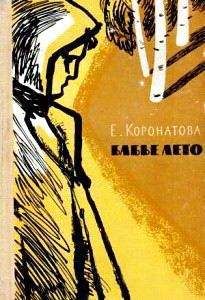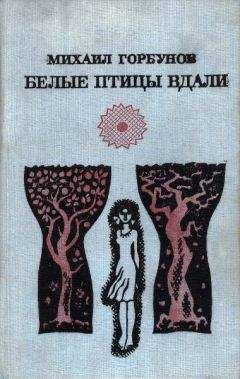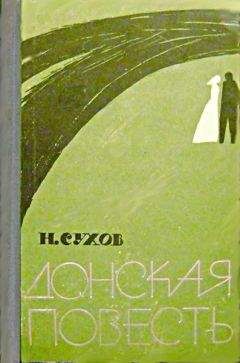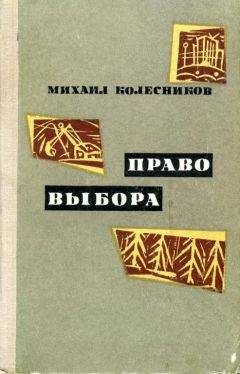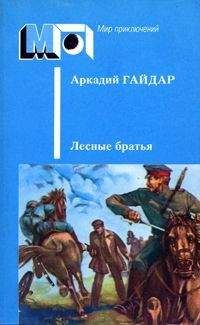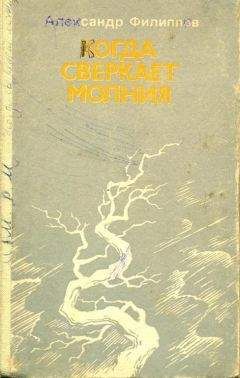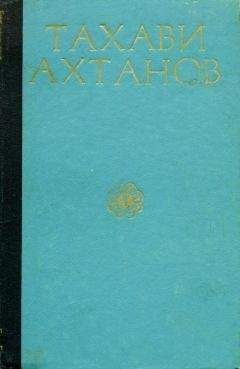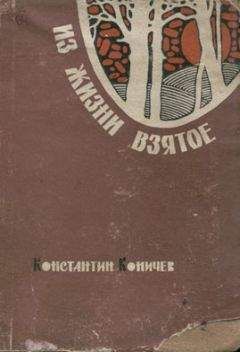Александр Русов - Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть)
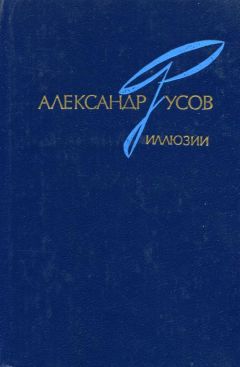
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть)"
Описание и краткое содержание "Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть)" читать бесплатно онлайн.
Повесть «Судья» и роман «Фата-моргана» составляют первую книгу цикла «Куда не взлететь жаворонку». По времени действия повесть и роман отстоят друг от друга на десятилетие, а различие их психологической атмосферы характеризует переход от «чарующих обманов» молодого интеллигента шестидесятых годов к опасным миражам общественной жизни, за которыми кроется социальная драма, разыгрывающаяся в стенах большого научно-исследовательского института. Развитие главной линии цикла сопровождается усилением трагической и сатирической темы: от элегии и драмы — к трагикомедии и фарсу.
Очередной раз поймав меня в институтском коридоре, потащил за собой.
— Алик, ты понимаешь живопись Рафаэля? — И не дождавшись ответа: — Я — нет. Это ужасно, но он меня не волнует. Целый час простоял в Дрезденской галерее перед «Сикстинской мадонной» — хоть бы что шевельнулось. Представляешь? Иван говорит: «Рафаэля чувствуют немногие. Кто не понимает в искусстве ничего или понимает все». Полукультурным, недокультурным людям Рафаэль недоступен. Видишь ли, Алик, то, что я делаю здесь, — ткнул он пальцем в пол, — каким-то образом связано с тем, что делается там, — почему-то показал он на стену. — Но если я не понимаю главного т а м, какова цена тому, что я делаю з д е с ь? Рафаэль — это пятьсот лет. Проживет ли сделанное мной пятьдесят? И с какой стати работать на такой мизерный срок? Наверняка уровень понимания великих творений оказывает влияние на долговечность того, что делаем мы. Я убежден, что здесь имеется какая-то связь. И у меня ничего не выходит потому же, почему я чего-то не воспринимаю в искусстве. Нам сорок, Алик, а его в тридцать семь уже не было. До чего не хочется повторяться, жить прошлым.
Нет, он не был сумасшедшим, хотя что-то от сумасшедшего в нем, безусловно, было. Гордыня безумца. Безрассудство. Неуправляемость. И в то же время хорошо понимал, кому можно говорить подобные вещи. Со своим Рыбочкиным таких разговоров не вел, а в моем присутствии выговаривался без стеснения. При всей амбициозности и самонадеянности мы так привыкли к ничтожности того, что делаем, так устали от обесцененности высоких слов и от собственного бессилия, с такой безоговорочной легкостью отдали все сколько-нибудь серьезное, существенное, тем более великое, прошлому и с таким снисходительным скептицизмом — будущему, что базановские заботы о бессмертии произвели на меня сильное впечатление.
Помнится, я подумал: «Ты-то, дорогой Виктор, с твоим воловьим упорством и могучими плечами, перед которыми не устоит ни одна дверь, проживешь аредовы веки, ты-то оставишь в жизни след. А вот что делать нам, у кого нет твоего таланта, твоих бицепсов?»
Ту фотографию, где Базанов читает лекцию, следует, видимо, назвать так: «Рассуждения о «термодинамической химии», или «Доводы в пользу аредовых веков».
(Это определение мы вынесли из капустинской мастерской. Глиняные скульптуры библейских долгожителей Ареда и Мафусаила (выставочное название «Старики») стоят на одном из самых видных мест. Когда мы с Наташей ощупью пробирались в направлении чердачка, лишь счастливый случай не оборвал их бесконечную жизнь.)
Если бы речь шла не о фотовыставке, посвященной памяти В. А. Базанова, то рядом с этой фотографией я бы поместил сделанную на заводе и относящуюся к периоду, когда решался вопрос о передаче Г. В. Гарышеву тематики, связанной с опытно-конструкторскими работами и технологическим освоением установки. Их контраст разителен. Вдохновенный лик ораторствующего профессора и лицо беззащитного, растерянного, жалкого человека. «Лицом к лицу с жизнью» — такой печально-насмешливый комментарий мог бы сопровождать второй портрет.
Конечно, в фотографии многое определяется моментом, случаем. Тем не менее оба снимка достаточно характерны, а помещенные рядом, они бы навели зрителя на мысль, которая по мере отбора материалов для выставки становилась все более очевидной: именно то, что служило Базанову источником силы в одной ситуации, делало его совершенно беспомощным в другой.
Основная причина постигшего Базанова несчастья заключалась, пожалуй, в том, что ему, подобно преждевременно сорванному плоду, не дали дозреть, побыть достаточный срок в том состоянии сосредоточенного уединения, отъединенности от всего и всех, в котором он пребывал в период, предшествующий «прорыву из небытия в бытие», в состоянии, из которого с самыми благими намерениями, не жалея сил, пытались извлечь его Январев и К° сначала путем проработки на студенческих собраниях, затем — всеми имеющимися в наличии подручными средствами, включая так называемое «общественное мнение», административные и иные меры воздействия, не без успеха примененные в отношении этого неисправимого, своенравного, во многих отношениях несносного индивидуалиста. Он напрягал все силы, чтобы дозреть, ибо такова была его цель, — но лишь надорвался.
Откуда эта растерянность, жалкость, испуг? Жутковатый снимок. В глазах затаился страх, ужас приговоренного. Сделав несколько пробных отпечатков, я решил взять бумагу большого формата: голова Базанова получалась почти в натуральную величину. Когда на чистом листе, опущенном в проявитель, начали проступать глаза, обрамленные тяжелой оправой очков, мне стало не по себе.
XV
Сложность ситуации, в которой оказалась базановская группа, долгое время усугублялась отсутствием связей с заводами. Френовский, конечно, делал все от него зависящее, чтобы не «пустить» Базанова ни на одно из предприятий, с которыми в процессе многолетнего сотрудничества у него установились дружеские, тесные отношения. Максим Брониславович умел находить выходы из сложных ситуаций, помогать советами, составлять и подписывать от имени института нужные заводу письма, то есть обладал высокой деловой культурой, если можно так выразиться. Все эти качества, как и совместные заявки на изобретения, приносящие авторам немалый доход, связывали заводчан с Френовским прочными узами, которые было не под силу разорвать никаким научным новациям, никаким новым принципам и теориям, во всяком случае, до тех пор, пока премьер теневого институтского правительства оставался на своем посту.
В ту азиатскую командировку, где предполагалось испытать опытную очистительную установку, Базанова и Рыбочкина направил Френовский. Первый этап войны остался позади: созданная Рыбочкиным лабораторная очистительная установка работала, и с этим надлежало считаться.
Нет, Максим Брониславович не препятствовал созданию нового, не ставил личные интересы выше общественных. Напротив, всячески способствовал усилиям базановской группы завершить начатое. Наконец-то Базанов послушался, повернулся лицом к практике. Наконец получены первые практические результаты, которых, собственно, и добивался Френовский. Ведь если разобраться, то все претензии Максима Брониславовича сводились именно к этому — к ускорению темпа работ и к получению практических результатов.
Перелом в войне наступил, часовой механизм взрывного устройства был включен. По расчету Максима Брониславовича, мина должна была сработать примерно через полгода, когда выяснится невозможность выполнения очередного этапа базановской темы и наступит пора подвести окончательные итоги. Как следствие подведения итогов — закрытие темы. Потом останется только засыпать оставшуюся от взрыва воронку землей и пройтись граблями, чтобы ничто не напоминало о прошлом.
Итак, Базанов и Рыбочкин собирались отправиться на юг с целью опробовать идею на практике. Френовский сам занимался оформлением их командировок, ходил в дирекцию, в бухгалтерию, в общий отдел, так что его заинтересованность в работе и в этой поездке на завод была видна всем и каждому.
Во время очередного вечернего чаепития в номере гостиницы Рыбочкин рассказывал:
— Мы едва выбрались сюда. Не давали денег на командировку. Френовский целую неделю выбивал.
— Деньги в институте были, — сказал я.
— Может, в других отделах.
— А у вас почему не было?
Рыбочкин пожимал плечами.
— Ты сам узнавал?
— Мне-то зачем?
Испытания прошли успешно. Когда вернулись в Москву, Максим Брониславович встретил их дружелюбно и непринужденно.
— Как съездили, Виктор Алексеевич?
— Кажется, удачно.
— Жарко, наверно?
— Тридцать восемь в тени.
— Ай-яй-яй! Заключение завода привезли?
— Они вышлют в наш адрес.
— Когда?
— Обещали через неделю.
На том и расстались.
Прошел месяц. Никакого письма. Однажды Рыбочкин сообщил Базанову: прибыл главный инженер завода, сидит в кабинете Френовского, о чем-то они совещаются вот уже около двух часов.
— Может, заглянете, поинтересуетесь, как там наши дела?
Базанов идет к Френовскому. При его появлении разговор Максима Брониславовича с главным инженером замирает.
— Я занят, Виктор Алексеевич. Чуть позже.
— Мне бы, собственно, не только с вами…
— Мы скоро кончим.
— Когда зайти?
— Позвоню.
Не позвонил. Само собой разумеется. Базанов зашел минут через сорок, в кабинете уже никого не было. Рыбочкин бросился на поиски главного инженера. Бегал по всему институту. Не нашел.
Вернулся Френовский. Озабоченный. Рассеянный. Даже как будто расстроенный.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть)"
Книги похожие на "Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Русов - Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть)"
Отзывы читателей о книге "Иллюзии. 1968—1978 (Роман, повесть)", комментарии и мнения людей о произведении.