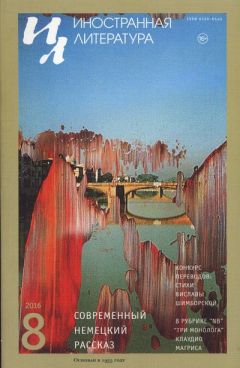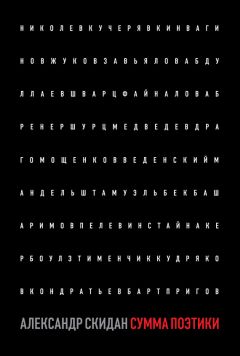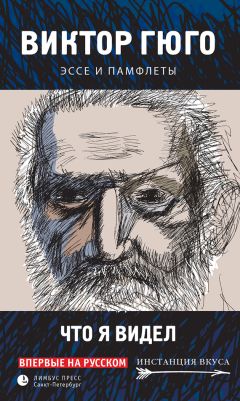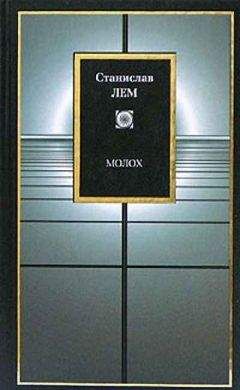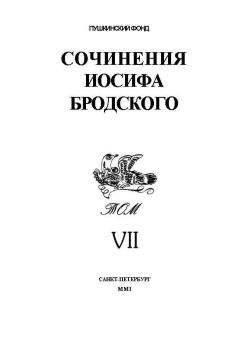Варлам Шаламов - Эссе
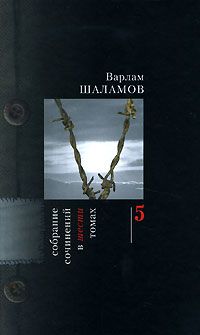
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Эссе"
Описание и краткое содержание "Эссе" читать бесплатно онлайн.
В книге собраны эссе Варлама Шаламова о поэзии, литературе и жизни
Первая строфа всегда возникает на определенной звуковом каркасе:
Извозчичий двор и встающий из вод
В уступах преступный и пасмурный Тауэр
Это и есть элементарный, но истинный и надежный при ем при работе над стихотворением. Он был хорошо известен Пушкину:
Подъезжая под Ижоры
Я взглянул на небеса
И вспомнил Ваши взоры
Ваши синие глаза.
Рифма небеса и глаза не очень хороша, но Пушкину было важно не нарушать единообразия звуковых повторов. Другой пример:
в наши дни орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.
«Сонет»
Еще большим энтузиастом звукового повтора был Лермонтов:
Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи.
«Пророк».
Или:
Русалка плыла по реке голубой
Озаряема полной луной.
«Русалка».
У Пушкина и Лермонтова просто нет стихов без доступной любому слуху грубой звуковой фактуры. Великим мастером звуковой магии был 'Блок. Несравненным звуковым организатором своих стихов была Цветаева. Так делают и современные поэты. Конечно, это — магия неандертальца, ибо никакой апелляции к разуму в этих «Ижорах» нет. Полемическое замечание Пушкина о том, что поэзия «должна быть глуповата», (письмо П. А. Вяземскому, май 1826 г.), подчеркивает ту главную мысль, важную мысль, что звуковой каркас — главное для поэта.
Все это, конечно, самые-самые азы стихотворной грамоты. Так пишут все — от Державина до Игоря Северянина: звуковая магия есть основа русского стихосложения.
За «созданием» первой строфы следует вторая.
Вторая — в какой-то части есть реализация приобретенного во время работы над первой и в то же время она все еще — в общем запасе, запасе слов, сравнений, аргументов, которые собраны в мозгу поэта до стихотворения.
Этот запас толкает поэта на следующие строфы — их может быть больше или меньше — в зависимости от ситуации.
Возникает несколько вариантов этих вторых, третьих строф, которые выступают неудержимо одна за другой, тут же — едва успеваешь записать на бумагу, остановить, фиксировать этот поток. Запись приносит величайшее облегчение. Записываются и лишние строфы — просто все, что вышло на перо в этом одноразовом потоке. Только через день (а то и через год), — если возникает такое же настроение, — возвращаешься к стихотворению. Запас уже исчерпан, но не настолько, чтобы суть стихотворения (тема или ощущение — экзерсис, подобно разыгрываемой гамме) перестала интересовать поэта. Напротив, наступает вторая стадия — где мысль, разум, воля играют более важную роль, чем при первой записи. Тут-то отвергается (не холодным, а жарким отвержением) кое-что. Кое-что подтверждается, кое-что дополняется. Устанавливается композиция — окончательный порядок строф.
Тут-то и определяется холодным взглядом — не подражает ли написанное кому-либо, в чем-либо, хоть в тоне, в слове, в словаре, в интонации, в художественной системе. Не напоминают ли мне собственные, только что написанные стихи чье-то чужое стихотворение или отдельный образ, символ, метафору. Все подражательное изгоняется самым жестоким образом, ибо эта Вторая правка — последняя. Если это перепев собственных вещей — оставляется в тетради.
Теоретически любое стихотворение можно улучшить Добавить кое-что и, вероятно, улучшать можно бесконечно. Я так не делаю. Переработка второй записи представляет для меня невероятное, чисто физическое мучение; дальнейшее улучшение и добавление стоят таких нервов, что лучше от него отказаться. Трудность здесь заключается в том, что очень трудно вернуться в уникальное состояние определенного напряжения нервов таланта, ума, которое ранее вытолкнуло на бумагу стихи.
Все мои стихи в сборниках, хотя я отнюдь не враг всяких переделок, напечатаны в том виде, в каком я их написал (единственное стихотворение, которого коснулась, — хотя и деликатнейшая, — рука редактора, никогда не вспоминаю). Даже читать старые стихи на то, что переделывать их, — очень трудно.
Для меня было в высшей степени удивительным и слышать и видеть, как Маяковский в 1928 году по просьбе слушателей читал свой «Левый марш». У меня бы губы не повернулись прочесть что-то старое. Очевидно, сами губы Маяковского как бы непроизвольна сложились в какие-то важные ему складки и поэтому повторение доставляло ему чисто физическое удовольствие. Но о своих стихах поэт может судить только сам Он — единственный судья своего собственного дела. Кроме собственного приговора, имеют значение суждения лишь высоко квалифицированных знатоков предмета, далеких от всяких «болельщицких» симпатий. Они не обязательно должны быть поэтами. Но они должны знать, какую цену платит поэт за свои стихи.
Поэмы и эпические вещи пишутся, наверное, иначе, не могу сказать. Но процесс работы над лирическим стихотворением от восьми до двадцати строк именно таков, как рассказано. Таков был он у Пушкина, Лермонтова, Фета, Баратынского, Тютчева, Блока, Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Маяковского, Северянина, Хлебникова и Есенина.
В мозгу поэта — да и не только в мозгу, но и в сердце и всей нервной ткани — копится некий звуковой гул. Стихотворение возникает как звуковой каркас — идут; поиски ритма, тона, размера, который должен дать выход накопленному в мозгу. Там же нарастает ощущение какой-то принудительности, обязательности, необходимости высказывания. Человеческий мозг хранит в себе кроме сформулированных мыслей — еще и запас ощущений, чувств, эмоций, желаний, подтекстов, обломков, ищущих выхода вне мысли, стремящихся победить прямую мысль, обойти ее в подтексте, в намеке, наполнив этот разумный текст неразумным чувством. В таком виде текст вырывается на бумагу под контролем мысли. Конечно, запись — это процесс вторичный, когда уже мысль вмешалась, ставит преграды и дает форму.
Поиски формы звукового потока составляют значительную трудность поэтического процесса, большую его. часть и неотъемлемое свойство. Поэтому-то поэзия — непереводима. (Даже художественная проза — непереводима. Гоголь, Зощенко — каковы они в переводе?…)
Но сейчас речь идет не об этом. Если считать, что поиски звукового каркаса стихотворения уже есть вид СОДЕРЖАНИЯ, то до осознанности, проясненности в сознании этому содержанию еще очень далеко. Разумом пользуется баснописец, но не поэт-лирик.
Стихи — это особый мир, где эмоции, мысль и словесное выражение чувства возникают одновременно и движутся к бумаге, перегоняя друг друга, пока не закончат каким-то компромиссом, потому что некогда ждать, пора ставить точку.
Для русского стиха таким коренным, главным путем движения рождающегося стихотворения, его улучшения является сочетание согласных в стихотворной строке. Совершенство — и совершенствование — русского стиха определяется сочетанием согласных.
Истинная поэзия — самоочевидна (стихи — не стихи), но это отнюдь не значит, что она — чудо и потому не может быть объяснена. Стихи не пишутся по модели «Смысл <=> Текст»: терялось бы существо искусства — процесс искания — с помощью звукового каркаса добраться до философии Гете и обратно — из философии Гете почерпнуть звуковой каркас очередной частушки. Начиная первую строку, строфу, поэт никогда не знает, чем он кончит стихотворение. Но звуковой каркас будущего стихотворения, его очень приблизительная идея — при полной силе эмоционального напора — существует. Стихи всегда — эмоциональная разрядка и в этом их важнейшая особенность и повелительность.
2. Трезвучия согласных — основа гармонии стиха
Стихотворная речь является на бумагу, всегда одетая в военную форму особого образца — в «опорных трезвучиях», как их называет Ю. А. Шрейдер (Я имею в виду текст, который с разрешения его автора привожу в Приложении. Музыкальный — по происхождению — термин приходится употреблять из-за недостаточной разработанности теории стихосложения, учения о поэтической интонации. Вообще же я избегаю пользоваться музыкальной терминологией — ибо это одна из причин смешения понятий. Музыка — абсолютно иное искусство, чем стихи, и пользование ее терминологией только затруднит дело. Не случайно, Блок, как и Маяковский, не имел музыкального слуха. В его термине «музыка революции» при всей его конкретной ощутимости и филосфоской значительности меньше всего собственно музы ки. Маяковский в. детские лефовские времена вполне серьезно уверял, что музыка — буржуазное искусство.
Пастернак, в отличие от Блока и Маяковского, был музыкантом и в «Охранной грамоте» — лучшей своей прозе — оставил нам волнующую историю выбора одного из двух искусств. Но сама необходимость выбора говорила, что стихи и музыка — чуждые друг другу миры. Гениальные стихи: Я клавишей стаю кормил с руки — все же не музыка, а стихи. Для того чтобы написать Казалось, скорей умертвят, чем умрут, рулады в крикливом, искривленном горле, не надо учиться контрапункту. Стихи очень далеки от музыки. Даже в ряду смежных искусств — танец, живопись, ораторское искусство ближе стихам, чем музыка.), в звуковых повторах особого рода, в особенных сочетаниях согласных: без них стихотворение считается предприятием штатским.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эссе"
Книги похожие на "Эссе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Варлам Шаламов - Эссе"
Отзывы читателей о книге "Эссе", комментарии и мнения людей о произведении.