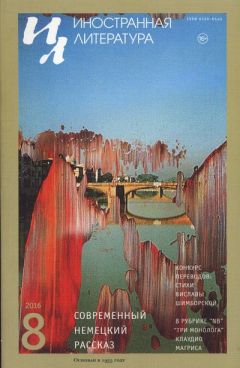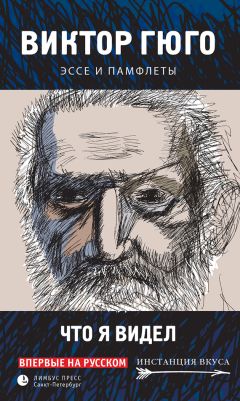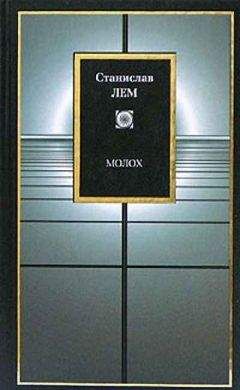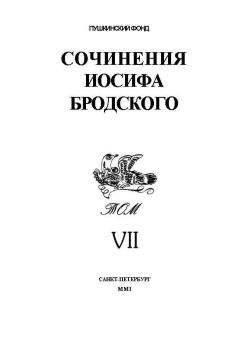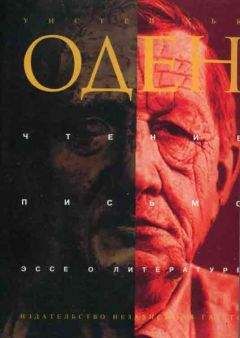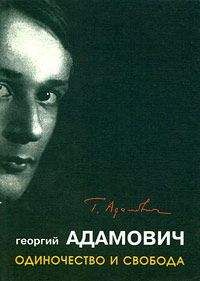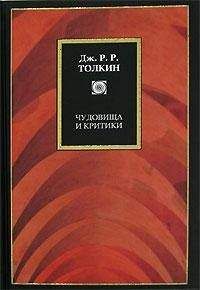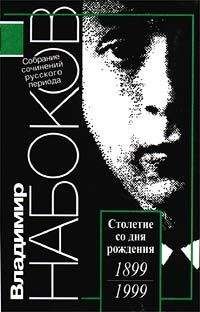Варлам Шаламов - Эссе

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Эссе"
Описание и краткое содержание "Эссе" читать бесплатно онлайн.
В книге собраны эссе Варлама Шаламова о поэзии, литературе и жизни
Фраза должна быть короткой, как пощечина, — вот мое сравнение.
В рассказе должна быть снята вся пышность.
В искусстве допустимо сравнение с другими родами — живописью, музыкой, чистота тонов заимствована мною у постимпрессионистов — у Гогена, у Ван Гога. Свой вклад в мой литературный стиль внесли и эти мастера. Чистота тона.
Каждый мой рассказ — это абсолютная достоверность. Это достоверность документа. Рассказ «Шерри-бренди» не является рассказом о Мандельштаме. Он просто написан ради Мандельштама, это рассказ о самом себе. При абсолютно достоверной документальности каждого моего рассказа я всегда имел в виду, что для художника, для автора самое главное — это возможность высказаться — дать свободный мозг тому потоку. Сам автор — свидетель, любым словом, любым своим поворотом души он дает окончательную формулу, приговор. И автор волен не то что подтвердить или отвергнуть каким-то чувством или литературным суждением, но высказаться самому, по-своему. Если рассказ доведен до конца, написан — такое суждение появляется. Для рассказа вовсе не нужно отделки. Вся отделка осталась за бортом рассказа. И хотя я все свои рассказы проговариваю, крича и волнуясь за каждую фразу, бывают и камни, и деревья, и реки, каждая со своим рассказом, — вся эта борьба является на бумагу как результат борьбы, равнодействующая многих сил — своих и чужих.
Одна из самых главных задач — это борьба с литературными влияниями. Когда-то мне доставляло немало хлопот — во время сюжетных стихов — ощущение вечных следов борьбы с такими писателями, как Амброз Бирс,[102] например. У нас его мало знают, но «Три смерти доктора Аустино» испытал явное влияние какого-то рассказа Бирса. Во влиянии опаснее, чем (само) влияние, — помимо собственной воли попасть в чей-то плен — материал драгоценный истрачен, а выясняется, что он напоминает что-то чужое, то есть убивает рассказ. Искусство не терпит подражаний. В «Колымских рассказах» я уже не болел никакой подражательностью по двум причинам — во-первых, я был натренирован на любой чужой тон, который зазвенел бы как предупреждающий сигнал опасности при появлении в моем рассказе чего-то чужого. Такая простая философия. А во-вторых, и самых главных, я обладал таким запасом новизны, что не боялся никаких повторений. Материал мой спас бы любые повторения, но повторений не возникло, ибо квалифицированность, натренированность сказались, мне просто не было нужды пользоваться чьей-то чужой схемой, чужими сравнениями, чужим сюжетом, чужой идеей, если я мог предъявить и предъявлял собственный литературный паспорт.
Читатель XX столетия не хочет читать выдуманные истории, у него нет времени на бесконечные выдуманные судьбы. Живая трагедия, не парадокс, реальное предательство Оппенгеймера.
Или все уходит в словотворчество, в новый роман со всяческой свободой — и тут никто осуждать не вправе.
Либо — в фантастику, расцвет которой кажется странным, ибо любое научное открытие реальное много богаче, глубже, чем фантазии автора фантастического романа. Но все же авторы научной фантастики стремятся как бы встать (наравне) с требованиями времени, бежать за временем «петушком, петушком».
Из всего прошлого остается документ, но не просто документ, а документ эмоционально окрашенный, как «Колымские рассказы». Такая проза — единственная форма литературы, которая может удовлетворить читателя XX века.
Второе — здесь изображены люди в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности. Проза моя — фиксация того немногого, что в человеке сохранилось. Каково же это немногое? И существует ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть — духовная и физическая? В этом смысле мои рассказы — своеобразные очерки, но не очерки типа «Записок из Мертвого дома», а с более очерченным авторским лицом — объективизм тут намеренный, кажущийся, да и вообще — не существует художника без лица, души, точки зрения. Рассказы — это моя душа, моя точка зрения, сугубо личная, то есть единственная. Этой личностной точкой зрения держится не только художественная литература. Нет мемуаров — есть мемуаристы.
Откуда все это возникает? Как это все происходит? Мне кажется, что человек второй половины двадцатого столетия, человек, переживший войны, революции, пожары Хиросимы, атомную бомбу, предательство, самое главное — венчающее все — позор Колымы и печей Освенцима, человек — а ведь у каждого родственник погиб либо на войне, либо в лагере, — человек, переживший научную революцию, — просто не может не подойти иначе к вопросам искусства, чем раньше.
Бог умер. Почему же искусство должно жить? Искусство умерло тоже, и никакие силы в мире не воскресят толстовский роман.
Художественный крах «Доктора Живаго» — это крах жанра. Жанр просто (умер).
Как ни парадоксально звучит, но мои рассказы и есть, в сущности, последняя, единственная цитадель реализма. Все, что выходит за документ, уже не является реализмом, а является ложью, мифом, фантомом, муляжом. А в документе — во всяком документе — течет живая кровь времени.
Я ставил себе задачей создать документальное свидетельство времени, обладающее всей убедительностью эмоциональности. Все, что переходит документ, уже не имеет право поставить себя выше любой гуманной сказки. На свете тысяча правд, а в искусстве — одна правда, — это — правда таланта. Поэтому мы прислушиваемся к пророчествам Достоевского. Поэтому нас захватывает и учит Врубель.
Для того чтобы существовала проза или поэзия — это все равно, искусство требует постоянной новизны. Только новизна — любой поворот темы, интонации, стиля — возможности изменений безграничны.
Художник черпает, и притом постоянно, вне зависимости от собственности, не только из методов «смежников» в лице архитекторов, музыкантов, живописцев, но и из науки, философии. Всё на равных правах ловится в этот невод, более похожий на запань лесозавода.
(Так же) черпает художник из газеты, из газетной работы. Надо только помнить, что газета и писательское творчество не только разные этажи литературной культуры, но разные миры. Если помнить, что художник судья, а не подручный, все будет хорошо. Масштаб сохранится, и газета не подавит, как это она сделала (с) Горьким и Короленко. Хорошие писатели, творчеству которых газета нанесла непоправимый ущерб. Сергей Михайлович Третьяков пытался укрепить газету, дать газете приоритет. Ничего путного из этого не вышло ни у самого Третьякова, ни у Маяковского. «Мое лучшее стихотворение» и прочая агитация в пользу «литературы факта». Литература факта — это не литература документа. Это только частный случай большой документальной доктрины.
ЛЕФовцы в ряде статей советовали «записывать факты», «собирать факты». Но копить, «искать факты» в их газетном преображении, как это делали когда-то фактовики. Но ведь это — искажение, расчисленное заранее. Нет никакого факта без его изложения, без формы его фиксации.
Документальная проза будущего и есть эмоционально окрашенный, окрашенный душой и кровью мемуарный документ, где все
документ и в то же время представляет эмоциональную прозу. Тут задача простая — найти стенограмму действительных героев, специалистов, о своей работе и о своей душе. Какие-то следы такая проза всегда оставляла — вроде записок Бенвенуто Челлини. Но уже воспоминания Панаева такой прозой не являются — этот мемуар составлен по самому общеизвестному принципу: кто кого переживет, тот того и перемемуарит. Нет литературного произведения, которое бы рождалось без формы. Какие бы мотивы ни лежали в основе толчка к творчеству — без формы произведение не рождается. Это бесспорный факт, по которому, конечно, нельзя судить о приоритете именно формы. Сам выбор формы может говорить о содержании. Но выбор, отбор, контроль — это уже вторичная стадия дела, а в основе у всякого художника ясный поиск чистой формы. Неопределенное чувство ищет выхода в стихи, в размер, в ритм или в рассказ. Дело художника — именно форма, ибо в остальном читатель, да и сам художник может обратиться к экономисту, к историку, к философу, а не к другому художнику, чтобы превзойти, победить, перегнать именно мастера, именно учителя. В «Жонглере» Каменского больше поэзии, чем в стихах Владимира Соловьева. Мысль, содержание губит стихи, и нужно было процедить мысль Соловьева через творческое сито Блока, чтобы явились «Стихи о Прекрасной Даме». «Двенадцать» — это именно поток действительности в новой сугубо форме — частушке. Что в аналогичном положении и аналогичном окружении привело к тем же методам, к тем же результатам такого антипода Блока, как Хлебников, — «Ночь перед Советами». Чем это не Блок?
Первоначальный творческий толчок исходит именно от формы, когда нет еще ничего ясного, определенного. А ведь закон поэзии основной в том, что поэт, садясь за стихи, не знает, чем он их кончит.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эссе"
Книги похожие на "Эссе" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Варлам Шаламов - Эссе"
Отзывы читателей о книге "Эссе", комментарии и мнения людей о произведении.