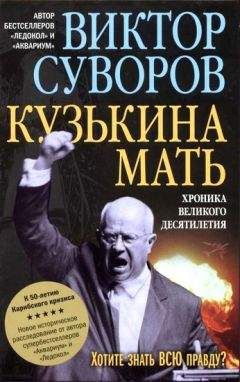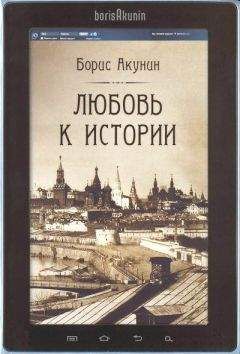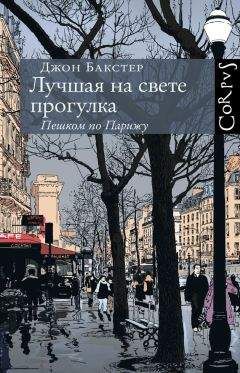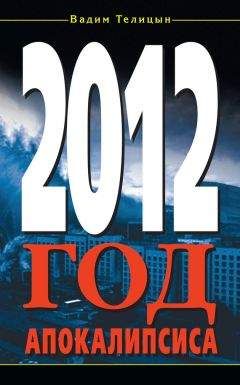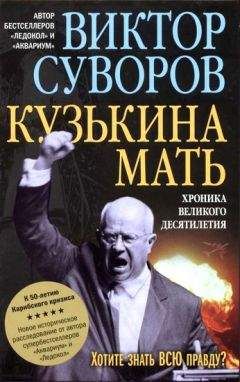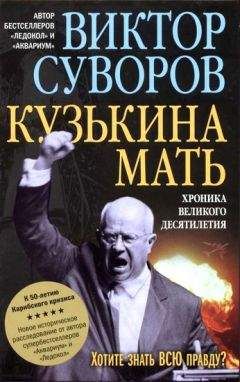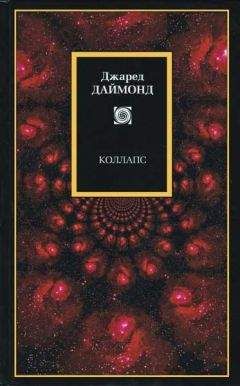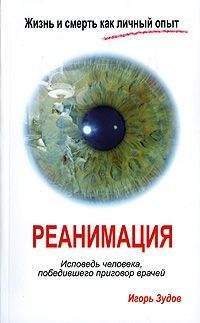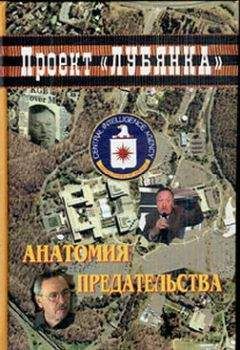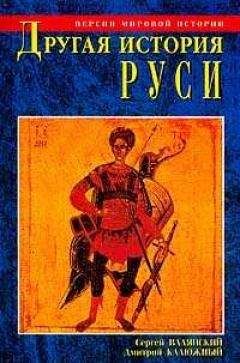Майя Злобина - Версия Кестлера - книга и жизнь
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Версия Кестлера - книга и жизнь"
Описание и краткое содержание "Версия Кестлера - книга и жизнь" читать бесплатно онлайн.
Злобина Майя
Версия Кестлера - книга и жизнь
Майя Злобина
Версия Кестлера: книга и жизнь
Артур Кёстлер. Слепящая тьма. "Нева", 1988, No 7-8.
Мощь пролетарского государства сказывается не только в
том, что оно разгромило контрреволюционные банды, но и в
том, что оно внутренне разлагало своих врагов, что оно
дезорганизовало волю своих врагов. Этого нет нигде и этого
нельзя иметь ни в одной капиталистической стране.
Из последнего слова Н. Бухарина.
Партия обещает вам только одно - после окончательной
победы, когда это не сможет принести вреда, секретные
документы будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что
легло в основу того Процесса - или того балагана, как вы
его называете, - в котором вы участвовали по велению
Истории... И тогда вы - а также некоторые из ваших друзей
- получите от широких масс чувство жалости и симпатии, в
которых вам отказано на сегодня.
А. Кестлер, "Слепящая тьма".
Вот еще одно табу снято: знаменитый роман Артура Кестлера, опубликованный на тридцати двух языках, а у нас ходивший в самиздатских списках, наконец-то вышел в СССР - в стране, где происходит описанная автором трагическая история. Все персонажи "Слепящей тьмы", впрочем, вымышлены, однако "исторические обстоятельства, определившие их поступки, взяты из жизни. Судьба Н. 3. Рубашова вобрала в себя судьбы нескольких человек, которые стали жертвами так называемых московских процессов. Кое-кого из них автор знал лично. Их памяти он и посвящает эту книгу". Написанная полвека назад иностранцем (венгерским евреем), "Слепящая тьма" не откроет вам никаких новых фактов. К тому же нынешний искушенный читатель обнаружат в романе ряд мелких неточностей, по которым безошибочно определит, что автор не был знаком с советскими тюрьмами. Однако исследование Кестлера лучше тысяч документов позволяет найти разгадку процессов. А сверх разгадки (почему они признавались?) роман предлагает ответ и на главный вопрос, над которым мы теперь бьемся: как вообще такое оказалось возможным? Версия Кестлера поражает почти математической выстроенностью доказательств, но это отнюдь не умозрительные выкладки стороннего наблюдателя. Бывший коммунист, Кестлер пережил драму "преданной революции" как личное горе и раскрыл истоки этой драмы с той выстраданной проницательностью, которая дается лишь обманутой любви. Дж. Оруэлл не преувеличивал, когда утверждал, что "русская революция была центральным событием в жизни Кёстлера". С юности он жил под знаком Октября, предопределившим его политический выбор и судьбу. Он верил (как и миллионы других - социализм был "доминирующей религией" "красных тридцатых"), что в стране победившей революции героическими усилиями свободного народа строится самое разумное, справедливое и счастливое общество. В 1932-м двадцатисемилетний Кёстлер приезжает к нам и с радостью берется писать книгу о советских достижениях под условным названием "СССР глазами буржуазного журналиста". (Он был, правда, коммунистом, но "партия решила", что для пользы дела это лучше скрыть.) Энтузиаст, "влюбленный в пятилетний план", Кёстлер искренне старался замечать лишь хорошее, а все плохое относил за счет "пережитков прошлого". Но его смущали толпы оборванных, голодных, измученных людей (ему, конечно, объяснили, что это кулаки), пустые прилавки в магазинах и спецраспределители для иностранцев, поклонение Сталину, всеобщая подозрительность, идиотизм пропагандистских клише и т. д. Все это, не допущенное "внутренним цензором" в текст, наверно, как-то ощущалось в подтексте, тоне - книга была отвергнута заказчиком... Кёстлер уехал, полный смятения, однако победа Гитлера сообщила новый импульс его пошатнувшейся было вере: в СССР он видел единственную силу, способную противостоять коричневой чуме. Борьба с фашизмом, надолго ставшая главным делом его жизни, оттеснила на задний план все остальное. О процессе Зиновьева -Каменева Кёстлер, прочел - с отвращением и отчаянием - уже на пути в Испанию. Потом была франкистская тюрьма, девяносто пять дней и ночей в ожидании казни, от которой Кёстлера спасли энергичные действия его жены Дороти и давнего товарища по партии Андре Симона, организовавших мощную кампанию протеста. Затем - триумфальное возвращение героя, выступления на митингах, книга об Испании, работа в антифашистских организациях, роман "Гладиаторы". Жизнь выстраивала парадоксальные сюжеты; в то время как Франко под давлением мировой общественности выпустил из тюрьмы "агента Коминтерна" Кёстлера, получившего убежище в буржуазной Франции, испанские коммунисты безжалостно расправлялись со своими товарищами по оружию - анархистами, а в Москве исчезали немецкие антифашисты (в том числе брат Дороти), и не было такой силы, которая могла их спасти... В 1938 году Кёстлер вышел из компартии (из-за сталинского режима, массовых репрессий, засилия бюрократии и т. д., как он объяснял в своем письме в ЦК КПГ). Таковы предыстория и жизненная основа "Слепящей тьмы". Из этого беглого перечня больших и малых событий выделим крупным планом тюремный эпизод, сыгравший решающую роль в духовной биографии писателя. Там, в камере смертника, Кёстлеру было дано пережить нечто вроде мистического откровения - непосредственное постижение высшей реальности, которое он назовет вслед за Фрейдом "океаническим чувством" (и которым наградит перед казнью, как последней милостью, своего героя, атеиста Рубашова). Духовный опыт, вынесенный из "диалога со смертью", не пройдет бесследно. Существование высшей, не доступной человеческому разуму реальности, которая одна лишь придает смысл нашей жизни, отныне принимается им за данность: "Это как текст, написанный невидимыми чернилами, и хотя мы не можем его прочесть, сознания, что он есть, достаточно, чтобы изменить самую основу нашего существования и привести наши поступки в соответствие с этим текстом". Для неверующего Кёстлера это значило жить так, словно Бог есть. Навсегда останется с ним и другое открытие, сделанное в камере смертника: он ощутил ценность каждой человеческой жизни. "Отныне слова "тюрьма" и "казнь", прежде вызывавшие в сознании лишь абстрактные клише типа "фашистский террор" или "революционная диалектика", рождали в памяти эхо" ему чудились стоны и крики его товарищей по заключению ("...кричит помогите... кричит помогите... ведут вырывается зовет на помощь передайте..." - лихорадочно выстукивает в "Слепящей тьме" стенной "телеграф", и Рубашов вместе с другими заключенными барабанит в дверь, торжественно-яростным "тамтамом" прощаясь с очередным приговоренным). То был мученический дар, призвание или болезнь - Кёстлер действительно слышал их: узники и жертвы всех режимов взывали к нему из тюрем и концлагерей, и он тоже кричал, будоражил общественное мнение, требовал правосудия, сострадания, милосердия. Много лет спустя в Англии, гражданином которой он стал, Кёстлер писал: "Каждый раз, когда в этой мирной стране на виселице корчится мужчина или женщина, моя память начинает кровоточить, словно плохо зажившая рана. Мне не знать покоя, пока не перестанут вешать". Его документально-публицистическая книга "Размышление о повешении" (1954) взволновала тысячи англичан, включившихся в организованную им "Национальную кампанию за отмену смертной казни". В 1956 году старый английский закон, согласно которому за всякое убийство независимо от обстоятельств отправляли на виселицу, был пересмотрен и смягчен (а в 1965 году отменен). Эта выигранная Кёстлером битва завершает первую половину его жизни, когда потребность участвовать в Истории подкреплялась верой в силу писательского слова. Однако после венгерских событий 1956 года Кёстлер постепенно отходит от политики и посвящает себя научно-философской публицистике, стремясь понять человека, вместо того чтобы пытаться переделать мир. Но что бы он ни делал, его, в сущности, всегда вело одно и то же чувство, один и тот же нравственный императив - в когда он боролся за идеалы Октября, и когда вышел из компартии, и когда сражался с фашизмом или разоблачал сталинизм. В "Слепящей тьме", вобравшей главные кёстлеровские разочарования и прозрения, особенно отчетливо слышен "звон путеводной ноты" (если воспользоваться выражением В. Набокова). Сцена ареста, с которой начинается роман, словно бы перекидывает мостик от гитлеровской тюрьмы к сталинской, от одного тоталитарного режима к другому. В то время как чекисты ломятся в московскую квартиру Рубашова, ему снится его последний арест в Германии, и спросонья он не может сообразить, кто Усач или Усатик - на этот раз добрался до него. Так в мутной невнятице кошмара приоткрывается истина, которую Кёстлер еще не решался выговорить, о "глубинном подобии двух диктатур". От полубредовой ночной сцены ареста потянется прерывистым пунктиром намеков и ассоциаций эта невысказанная мысль-вопрос, чтобы под занавес вспыхнуть еще раз в затухающем сознании героя, настичь вместе с пулей - как последний и окончательный ответ. Кёстлер предпослал "Слепящей тьме" два эпиграфа - из Макиавелли и Достоевского, сразу же обозначив полюсы конфликтного напряжения: политика против нравственности. Но если сентенция Макиавелли ("Диктатор, не убивший Брута, и учредитель республики, не убивший сыновей Брута, обречены править временно") впрямую связана с темой и сюжетом, то слова Mapмеладова: "...ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели", - в контекст романа не вписываются. Ссылка на Достоевского - своего рода пароль, символ веры - потребовалась здесь еще и для того, чтобы заявить об авторском отношении к герою. Можно сказать, роман Кёстлера и был тем местом, где Рубашова выслушали и пожалели. Хотя судит его автор со всей строгостью, твердо и неуклонно ведя к осознанию вины. Речь идет, конечно, не о том признании, которого добиваются и в конце концов добьются от него следователи. Для Кёстлера Рубашов не только жертва, но в какой-то мере - в этом трагическая ирония истории - и соучастник "могильщика революции", по приказу которого будет расстрелян. Как и другие представители старой гвардии, ликвидированные один за другим. Они сами вырастили Главного режиссера, и "ужас, который внушал им Первый, укреплялся прежде всего потому, что он, весьма вероятно, был прав" ("...у каждого из нас, сидящих здесь, на скамье подсудимых, - говорил на процессе Бухарин, была своеобразная двойственность сознания, неполноценность веры в свое контрреволюционное дело", и искренность его слов, если, конечно, отбросить ритуальный эпитет "контрреволюционное", не вызывает сомнений). Кёстлер не берется гадать, когда, на каком конкретно перекрестке следовало повернуть направо, а не налево, чтобы выйти к обещанному царству Разума и Свободы (или к Храму, как модно говорить нынче), и насколько реальны были другие альтернативы. И не только потому, что в те годы почти все - и друзья и враги (за исключением разве троцкистов) - считали сталинский вариант единственно возможным, то есть "исторически неизбежным". Кёстлер убежден, что ни одна из предложенных дорог не могла привести к Храму из-за отказа от общечеловеческих нравственных ценностей. Свободная от этих "буржуазных предрассудков", уверенная в своей революционной миссии, партия прокладывала путь к цели, не имея иного критерия, кроме интересов Дела, возведенных в ранг исторической необходимости. Печально знаменитая в веках формула - "цель оправдывает средства", - которая то и дело упоминается в романе как общепризнанный партийный принцип, насколько мне известно, не провозглашалась у нас с высоких трибун. Но разве не учили нас, что наша нравственность полностью подчинена интересам классовой борьбы пролетариата? Разве не твердили десятилетиями, ссылаясь на слова Ленина, сказанные в 1920 году, то есть в эпоху "военного коммунизма" и гражданской войны, что нравственность "служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество коммунистов... для коммуниста нравственность вся в этой сплоченной солидарной дисциплине и сознательной массовой борьбе против эксплуататоров. Мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем. Нравственность служит для того, чтобы человеческому обществу подняться выше... В основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма"? Целые поколения выросли на этом катехизисе, убежденные в своей исторической правоте. А решать, в чем состоят интересы классовой борьбы, досталось Сталину, и уж он сумел воздвигнуть на этой основе общедоступную, как таблица умножения, систему аморализма. Что же удивляться кровавым всходам и вопрошать на развалинах Храма, как мы дошли до этого?.. И не надо строить иллюзий и окружать нимбом святости старую гвардию - все они, с гордостью называвшие себя солдатами революции, исповедовали то же кредо со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но воздадим должное лучшим из них за интеллигентскую раздвоенность сознания и так называемые гуманитарные соображения (в коих признался на суде Бухарин). Наверно, они потому и были обречены на поражение в борьбе со стальным Усачом, что не могли освободиться от "химеры, называемой совестью". Вот уровень рассмотрения проблемы, которую предлагает нам Кёстлер. Совесть - Немой Собеседник, или личное Я, годами игнорируемое Рубашовым, подает голос, едва лишь он оказывается в тюремной одиночке. "Теперь-то уж я расплачусь за все" - в этой словно бы невзначай сорвавшейся фразе, сперва как бы машинально повторяемой героем, заявлена главная тема Немого Собеседника. Разум, единственное мерило, которому доверяет Рубашов, сопротивляется этой явной бессмыслице. Но у Немого Собеседника - иные мерки. Он не признает никаких резонов, освобождающих от личной ответственности, будь то историческая необходимость или благо человечества. И одного его присутствия достаточно, чтобы лишить смысла ту строго логическую систему рассуждений, с помощью которой можно "легко доказать, что человек, не согласный с линией партии, "объективно" является агентом фашизма... даже если "субъективно" он погиб в фашистском концлагере". В отличие от следователей Немой Собеседник не формулирует обвинений, он "насылает" на Рубашова "пытку памятью". Вот Рихард, немецкий рабочий-коммунист, за которым охотятся фашисты, глава небольшой партгруппы, продолжающей отчаянную борьбу после победы Гитлера; Рихард, посмевший отвергнуть коминтерновские брошюрки, в коих бодро говорилось о "тактическом отступлении", и в собственных листовках призывавший объединиться всех врагов тирании. Они встретились в тихой картинной галерее, и старый революционер внушительно объяснил молодому подпольщику, что Партия никогда не ошибается, что позиция Рихарда объективно на руку врагам, а посему решением ЦК он исключен из ее рядов и уже не может пользоваться партийным убежищем... (Тут возникает непредусмотренная перекличка с романом В. Гроссмана: подобно Рубашову, комиссар Крымов отправляется, рискуя жизнью, на линию огня - в дом Грекова, чтобы искоренить "партизанщину", то есть свободу, и покарать воюющего по собственному разумению героя. Знаменательно также, при всем различии обстоятельств и характеров, глубинное сходство судеб: Рихард и Греков погибают в бою с фашизмом, Крымов и Рубашов - в советской тюрьме.) Другое навязчивое воспоминание - Малютка Леви, председатель партийной ячейки докеров бельгийского порта, куда Рубашова послали с особо деликатным заданием. Ему предстояло убедить докеров снять бойкот, начатый до советско-германского пакта по инициативе Москвы, и разгрузить советские танкеры, привезшие горючее молодой хищной диктатуре: дескать, помочь Стране Победившей Революции - святой долг всех рабочих. (Этот эпизод уже был написан, когда Кёстлер прочел бесстыдную речь Молотова, объявившего войну "за уничтожение гитлеризма" не только бессмысленной, "но и преступной", и европейские компартии, подчиняясь приказу Москвы, прекратили антифашистскую борьбу.) А поскольку докеры - вернемся к роману - не пошли на сделку, пришлось исключить из партии непокорных комитетчиков, а Малютку Леви объявить агентом-провокатором. Он повесился три дня спустя, зато советские суда были разгружены и агрессор получил нефть... Да, волна движения катилась к цели, "извилистым путем", и "на всех поворотах оставались трупы". Впрочем, по части трупов личный вклад Рубашова (если не считать гражданской войны) не так уж велик. Кроме тех двоих, выла еще Арлова, секретарь и возлюбленная, арестованная за участие в оппозиции (мнимое) и принесенная им в жертву - не только ради "спасения собственной шкуры", как утверждают следователи, но и потому, что его, рубашовская, жизнь несомненно ценнее для Партии, которой он еще может понадобиться. Он и понадобился - в качестве очередной искупительной жертвы, и в тюрьме на первом же допросе услышал от своего боевого товарища Иванова, волей случая оказавшегося его следователем, те же доводы, которыми руководствовался сам, обрекая на смерть Рихарда, Леви или Арлову. В споре с Ивановым, происходящем как бы в присутствии Достоевского, Рубашов с мукой и гневом говорит о последствиях "революционной этики", которую умом по-прежнему принимает: "...посмотри, в какое кровавое месиво мы превратили нашу страну". Он говорит "мы", хотя автор позаботился обеспечить ему алиби: Рубашов несколько лет сидел в гитлеровской тюрьме - как раз в те годы, когда утвердилась диктатура Первого. Но, признавая свою моральную ответственность, он на правах смертника предъявляет счет Иванову: миллионы уничтоженных, сознательно уморенных голодом, согнанных в каторжные лагеря; раболепное почитание вождей, всеобщий страх и доносительство, бесправие, нищета и т. д. "Мы гоним хрипящие от усталости массы - под дулами винтовок к счастливой жизни, которой никто, кроме нас, не видит... И, знаешь, мне иногда представляется, что мы, ради нашего великого эксперимента, содрали с подопытных кроликов кожу и гоним их кнутами в светлое будущее..." Рядом с этой всенародной бедой много ли весят три загубленные жизни, терзающие Рубашова? Столько же, сколько все остальные, вместе взятые, рискну я ответить за Немого Собеседника. Ибо если ради некой высшей цели позволено устранить одного безвинного, то с тем же основанием можно ликвидировать и миллион. Дело не в количестве, хотя шестизначные цифры впечатляют сильнее, но одновременно и развращают, обесценивая одну-единственную жизнь. Дело в принципе. Либо мы признаем вместе с Раскольниковым, на трагический опыт которого ссылается Рубашов, что нельзя убить даже вредную старушонку-процентщицу, либо согласимся с прагматическим подходом Иванова: "Если бы твой малахольный Раскольников прикончил старуху по приказу Партии - для создания фонда помощи забастовщикам или для поддержки нелегальной прессы, - логическое уравнение было бы решено". (Сталин, как известно, в молодости занимался "экспроприациями".) "...Если б... "доказал" кто-нибудь из людей "компетентных", - писал Достоевский, - что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же "цель оправдывает средства", - если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых". У Кёстлера исполнители отнюдь не из веселых и не из беспринципных. Автор берет - для чистоты эксперимента-идеализированный вариант и показывает, что личные качества людей, обслуживающих такую систему, по сути, ничего не меняют. Чекисты в романе - убежденные коммунисты, сражавшиеся за свои идеалы на фронтах гражданской. Как и главный герой, они прежде всего солдаты Партии, с общим мировоззрением, понятием о долге, языком, и при всех разногласиях понимают друг друга лучше, чем тот же Рубашов своих случайных товарищей по несчастью - офицера-монархиста или темного, покорного и сугубо условного мужика (того самого "подопытного кролика", который не имеет ни малейшего представления о смысле и цели сей социальной хирургии). В общем, следователи в "Слепящей тьме" - люди в полном смысле слова идейные. Таков интеллигентный, с налетом грустного цинизма Иванов с его "вивисекторской моралью" и пафосом революционных преобразований - один из тех "лично честных", искренне желающих "добра народу" большевиков, которые, как писал в 1918 году ужаснувшийся Горький, "производят жесточайший научный опыт над живым телом России". Таков примитивно-цельный, суровый Глеткин, прошедший школу нищеты и классовой ненависти, "монстр, вскормленный нашей же логикой" (по определению Рубашова), "но сейчас нам нужны именно монстры". Иванов, дружески уговаривающий Рубашова "признаться", прекрасно знает, что тот не совершал приписываемых ему преступлений. "...Но пойми, мы убеждены, что ваши идеи приведут страну и Революцию к гибели... Это - суть... Мы не можем позволить, чтобы нас запутали в юридических тонкостях и хитросплетениях". Глеткин, сменивший арестованного Иванова, хоть в считает Рубашова опасным врагом, тоже вроде бы не верит в те несуразицы, на которых строится обвинение. Впрочем, для хода и исхода дела это не имеет никакого значения, как и вообще "субъективная" честность - то есть невиновность. Разве сам Рубашов верил, что Леви - агент-провокатор? "Я мыслил и действовал по нашим законам, - пишет он в дневнике, - уничтожал людей, которых ставил высоко, и помогал возвыситься низким, когда они были объективно правы. История требовала, чтобы я шел на риск; если я был прав, мне не о чем сожалеть; если не прав, меня ждет расплата". Однако "наша логика", на которую делает ставку Иванов, как и "жесткие методы" Глеткина, вряд ли заставила бы Рубашова капитулировать, если бы Немой Собеседник, истязающий его воспоминаниями, не требовал, со своей стороны, расплаты. Реконструкция Кёстлера, основанная на глубоком понимании этого особого, ныне вымершего (либо истребленного), человеческого типа, может вызвать недоверие современного читателя, показаться слишком сложной, даже надуманной. Здравомыслящие реалисты, которым наиболее достоверной представляется, как правило, самая низкая истина, не видят в поведении Рубашова (точнее, его исторических прототипов) никакой загадки: "Просто их нещадно избивали и пытали". Неандерталец Глеткин тоже убежден, что любого можно "раздавить морально и физически" - все дело лишь в "физической конституции... А остальное - сказки". Сам Кёстлер, не раз подчеркивавший, что его объяснение относится лишь к типу старого большевика, чья "преданность партии абсолютна", в той же "Слепящей тьме" продемонстрировал и другие варианты. Молодой Кифер, будто бы готовивший, по наущению Рубашова, убийство вождя, дает показания после чудовищных многодневных пыток. Этот несчастный "сообщник", появляющийся на очной ставке уже обработанным, написан воистину милосердным пером, с таким бережным состраданием, словно автор боится неосторожным прикосновением причинить ему боль. Да, Кёстлер знает: человек слаб, и нельзя требовать, чтоб он вынес невыносимое. Но он знает также, что это слабое, уязвимое, беззащитное существо способно - во имя некоего высшего долга, веры, идеала - противостоять любому насилию, шантажу, пыткам. Он встречал таких в Испании, у него были друзья и товарищи, выдержавшие испытание гитлеровскими и сталинскими лагерями. Словом, он имел возможность убедиться, что даже в век тоталитарных систем сила духа есть такая же несомненная реальность, как, скажем, страх, жестокость, предательство. "Патетически безоглядное отречение от себя" прославленных революционеров, соратников Ленина, находилось в вопиющем несоответствии с их героическим прошлым. Концепция Кёстлера, по сути, снимает это противоречие. Рубашову нечего противопоставить тем, кто судит его именем Партии - их общего божества ("Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной яркостью абсолютно черная пустота, - говорил в своем последнем слове Бухарин. - Нет ничего, во имя чего нужно было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись"). Но, отрекаясь от себя и согласившись сыграть на подмостках суда роль лубочного врага - козла отпущения, Рубашов сохраняет верность тому "единственному абсолюту", которому служил всю жизнь. И когда наконец он подписывает последний пункт обвинения, признав себя "платным агентом мирового капитализма", Глеткин, впервые назвав его "товарищем", торжественно произносит: "Надеюсь, вы понимаете, какое доверие оказывает вам Партия". "Ну, это уж слишком", - возразит все тот же здравомыслящий читатель и снова ошибется. Хотя в поведении персонажей романа иной раз и впрямь ощущается налет некой дурной театральщины, автор в сем неповинен: таковы были правила игры, вкусы и стиль, принятые в этом театре абсурда. Кроме воспоминаний В. Кривицкого ("Я был агентом Сталина"), которые цитирует в подтверждение своей версии сам Кёстлер (*), сошлюсь на документальное "Признание" Артура Лондона, приговоренного в 1952 году к пожизненному заключению за участие в "антигосударственном заговоре" генерального секретаря ЦК КПЧ Рудольфа Сланского и реабилитированного в отличие от "главарей" еще при жизни, в 1956 году. Среди одиннадцати повешенных был и Андре Симон, тот самый, кто некогда вытащил Кёстлера из франкистской тюрьмы. Следя по газетам за процессом, автор "Слепящей тьмы" с беспомощным отчаянием узнавал в "признаниях" своего бывшего друга (естественно, отрекшегося от него после выхода романа) собственный текст - последнее слово Рубашова. Но вернемся к "Признанию" Лондона. Когда читаешь эту поразительную исповедь, снова и снова вспоминаешь книгу Кёстлера: "жесткие методы" и бесстыдная апелляция к коммунистической сознательности "врагов", от которых требуют, чтобы - во имя интересов дела! - они признали себя участниками антипартийной группы, контрреволюционерами, вредителями, - все та же бредовая логика. (Впоследствии Кёстлер назвал этот способ мышления "контролируемой шизофренией".)
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Версия Кестлера - книга и жизнь"
Книги похожие на "Версия Кестлера - книга и жизнь" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Майя Злобина - Версия Кестлера - книга и жизнь"
Отзывы читателей о книге "Версия Кестлера - книга и жизнь", комментарии и мнения людей о произведении.