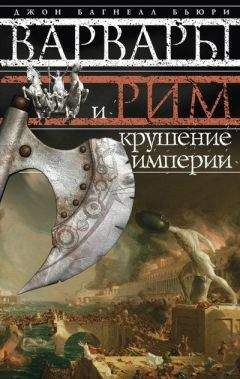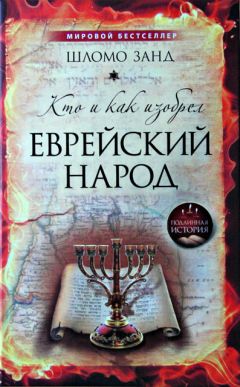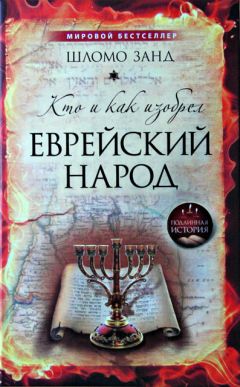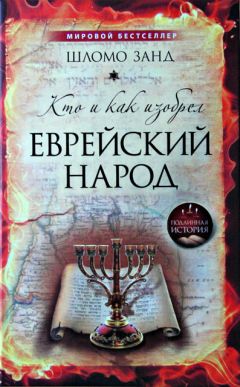Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.
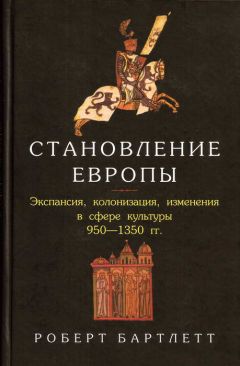
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Описание и краткое содержание "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг." читать бесплатно онлайн.
Роберт Бартлетт — профессор-медиевист в Университете Сент-Эндрю. До 1992 года был профессором истории средних веков Чикагского университета, а ранее преподавал в Эдинбургском университете. Он получал образование в университетах Кембриджа, Оксфорда и Принстона, занимался исследовательской работой в Мичиганском университете, научных центрах Принстонского университета — Институте углубленных исследований и Центре Шелби Каллом Дэвис, а также в Геттингенском университете. Среди более ранних публикаций — труды Gerald of Wales, 1146-1223: Trial by Fire and Water: The Medieval Judicial Ordeal; Medieval Frontier Societies (в качестве соредактора).
Профессор Бартлетт женат, имеет двух детей.
Книга «Становление Европы» в 1993 году удостоена Вульфсоновской премии по истории.
Некоторые из уже приводившихся цитат рисуют переселенцев, покидающих родные поля или избавляющихся от своего надела, откуда ясно, что многие колонисты отнюдь не были безземельными. У себя на родине это были вполне состоявшиеся крестьяне-фермеры. Даже у тех, кто решался на переселение под влиянием безнадежных обстоятельств, порой имелась своя земля, которую они теперь продавали, как в случае с зависимыми крестьянами Гайнингена в Саксонии, которые, «разоренные грабежами и поджогами, под бременем крайней нищеты», отдали свои пять мансов господину и покинули родные края; либо «бедных скитальцев»{451} Рейнской области, вынужденных в 70-е годы XII века «продать родовые владения и переселиться в чужие края»{452}. В этих случаях доход, полученный от продажи старого участка земли, мог стать хорошим подспорьем переселенцам на переходном этапе, пока они еще не получили новой земли, а также на первые, самые трудные годы. Переселение в чужие края требует не только воли, но и ресурсов. Уже в наше время было замечено, что ядро эмиграции составляют люди, занимающие средние ступеньки общественно-экономической лестницы, то есть не самые богатые и не самые бедные. У них, следовательно, есть и мотив, и способность к тому, чтобы перебраться на новое место и начать с нуля. К тому же для феодалов более привлекательными кандидатами в новые поселенцы были опытные земледельцы, нежели безземельные и нуждающиеся крестьяне.
ЗАКЛАДКА ОСНОВ
Одной из первых задач при основании нового земледельческого поселения было установление границ между домами, дворами и полями. В лесистой местности эта задача порой оказывалась достаточно сложной. Так, размежевание земель цистерцианского монастыря в Генрихове (Heinrichau) в Силезии осуществлялась путем наблюдения с вершины сначала одного холма, затем другого, а также с помощью дымовых сигналов для ориентирования на поросшей лесом местности. После этого пограничные знаки высекались на стволах деревьев{453}. В более открытой местности могло хватить и межи, пропаханной плугом{454}. В землях, лежавших восточнее Эльбы, эта задача была сложна, поскольку требовался не только раздел, но и обмер. Единицей измерения в Остзидлунге служил манс, то есть земельный надел площадью 40 или около 60 акров (соответственно для участка фламандского или франкского типа){455}. Когда закладывалась новая деревня, требовалось сперва определить количество будущих участков и лишь затем проводить их разбивку на местности. Иногда деревни даже назывались по количеству мансов — например, в Силезии была «деревня семи наделов» — Зибенхуфен (Siebenhufen){456}, ныне — Семславице (Siemslawice). Делались и попытки к единообразию. Так, в некоторых областях, например, в Ноймарке в Бранденбурге, стандартным размером поселения стали 64 манса. Здесь половина всех новых деревень была именно такой величины{457}.
Порой в больших владениях число мансов служило только для ориентира, ибо трудно себе представить, чтобы во всех случаях проводились точные обмеры земли. Например, Владислав Одониж Великопольский в 1224 году жаловал Тевтонским рыцарям 500 мансов, а в 1233 году — цистерцианцам два участка по 2000 и 3000 мансов, при этом не надо забывать, что 3000 мансов — это порядка 200 квадратных миль{458}. Даже при менее значительных пожалованиях чаще всего размер устанавливался приблизительно. Одна герцогская грамота из Силезии XIII века регламентировала заселение двух деревень по немецкому закону и констатировала: «Поскольку число мансов, которые можно там разбить, точно установить пока невозможно, мы не в состоянии в точности предусмотреть объем прибыли, какую мы с этого получим»{459}. Самый ранний из дошедших до нас документов, имеющих отношение к основанию нового поселения в Силезии, был издан герцогом Генрихом Бородатым в 1221 году{460}. Речь в нем идет о деревне в составе пятидесяти мансов, однако делается следующее допущение: «если тамошний лес превышает по площади пятьдесят мансов, то мы все равно отдаем его деревне на тех же условиях»{461}. В самом деле, опасаясь, что впоследствии князь или сеньор проведут новый обмер и установят, что реально у крестьян оказалось земли больше, чем было рассчитано изначально, и деревне будут грозить более тяжкие поборы, поселенцы Остзидлунга подчас покупали себе иммунитет от такого перемера земли. Князь Рюгенский в 1255 году получил от каких-то поселенцев двадцать шесть марок, «с тем чтобы за их деревней навечно числилось столько мансов, сколько сейчас, и никакой новый обмер земли не проводился»{462}. Обследование земель Богемии в середине XIV века выявило, в частности, что участок, считавшийся равным шестидесяти одному мансу, на самом деле включал по меньшей мере шестьдесят четыре, и жители заплатили немалую мзду, чтобы только излишки ограничились этими тремя участками и больше никогда не перемерялись — их подати возросли в результате на пять процентов. Один цистерцианский монастырь с земельными владениями в Мекленбурге откровенно предписывал в своих бумагах: «Если господа [то есть герцоги Мекленбургские] спросят, сколько у нас мансов, надлежит по возможности это число занижать»{463}.
Однако в большинстве случаев обмеры земли все же проводились с достаточной точностью. Герцогская деревня Погель в Силезии, заселенная по фламандскому закону в 1259 году, была промерена и зарегистрирована как имеющая двадцать один манс плюс еще один заливной, который считался общинной собственностью{464}. Использовались специальные измерительные рейки и шнуры. Польское и чешское слово для обозначения последних (соответственно sznur и snurd) происходят от немецкого Schnur, что говорит о немецком влиянии и в этой сфере{465}. Измерение шнуром (per funiculi distinctionem или in funiculo distribucionis) упоминается летописцем Гельмольдом Босаусским{466}. Любопытно, что в ряде грамот об этом инструменте говорится с интонацией церковного текста: «И призвал он к себе язычников, и поделил между ними наследство шнуром» (divisit eis terram in funiculo distribucionis){467}. Однако существовали совершенно реальные шнуры и рейки, которые применялись при расчистке и обмере земли под пашню. Силезские герцоги имели собственных землемеров (mensurafores){468}, и когда граф Гольштейнский Адольф попытался обмануть епископа Ольденбургского, «он велел своим землемерам пользоваться при обмере шнуром короче обычного» и включил в расчет болото и лес{469}. В Генрихове «земледельцев собрали сразу, как только закончили обмер»{470}. Прусский документ 1254 года упоминает «135 стандартных шнуров, которыми измеряются земельные наделы в Пруссии»{471}. Самым же убедительным надо признать тот факт, что на планах и картах XVIII–XIX века деревни и земельные владения Остзидлунга имеют прямоугольные очертания, что можно объяснить только тем, что поля и поселения разбивались с помощью простейших измерительных инструментов, какими являлись шнур и рейка.
Процесс обмера земли воссоздает дарственная грамота, оформленная Тевтонскими рыцарями в Пруссии в пользу саксонского аристократа Дитриха Тифенауского в 1236 году. Они пожаловали ему замок «и 300 фламандских мансов, ныне не обрабатываемых, но пригодных для пахоты, количество которых он установит обмером»{472}. Фламандский манс был в Пруссии стандартным участком, как было определено еще в Хелминской грамоте 1233 года. Земли Дитриха были описаны приблизительно: от поместья, принадлежавшего Мариенвердеру (Квидцин), далее в одну сторону вниз по течению реки Ногат до границ соснового бора, а в другую — по прямой до обрабатываемых полей вокруг Ризенбурга (Прабуты). Если обозначенная столь приблизительно земля оказалась бы меньше 300 мансов, то рыцари были готовы прибавить к ней часть пашни в окрестностях Ризенбурга. Участки соснового леса, соизмеримые со стандартным маисом, в расчет не включались (тогда как граф Адольф Гольштейнский в свое время сделал именно так). Практическая тригонометрия, которую мы здесь видим, получила официальное оформление в Пруссии примерно в 1400 году в «книге практической геометрии» под названием Geometria Culmensis, которая предположительно была написана в ответ на обеспокоенность Великого магистра Тевтонских рыцарей ситуацией с «обмером полей»{473}.
Конечно, не всякая новая деревня закладывалась на месте дикого леса. В Восточной Европе зачастую уже имелись старые поселения или хотя бы название той местности, куда должны были «вписаться» новые поселенцы. На Сицилии нормандцы-завоеватели сохраняли «древние поселения сарацинов»{474}, а на Пиренеях прежняя топонимика имела еще более давние корни, ибо мусульманская Испания была населена достаточно плотно. Это касалось даже тех случаев, когда население сильно редело в результате войны и завоевания, как произошло с деревней и поместьем Арагоса, пожалованными епископу Сигуэнцы в 1143 году: их «границы были неизвестны, поскольку здесь долгое время никто не жил»{475}. Различие между присвоением уже заселенной территории и освоением пустующих земель видно из грамот, изданных практически в то же время в Арагоне{476}. В одной речь идет о домах прежнего владельца-мусульманина, «которые во времена мавров были самыми процветающими», другая касалась незаселенной земли и предполагала право «строить на этой пустой земле (еremo) дома, причем как можно лучше». Выражение «во времена мавров были самыми процветающими» говорит о топонимической преемственности, а слова «как можно лучше» равносильны карт-бланш, выданной поселенцам. Обе ситуации имели место во вновь колонизованных землях.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Книги похожие на "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Роберт Бартлетт - Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг."
Отзывы читателей о книге "Становление Европы: Экспансия, колонизация, изменения в сфере культуры. 950 — 1350 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.