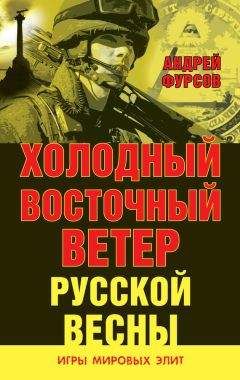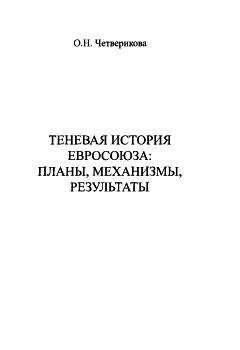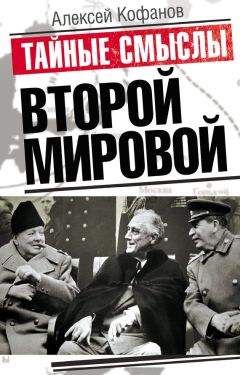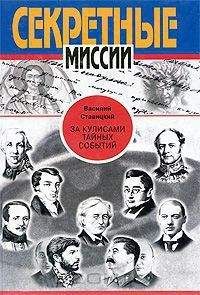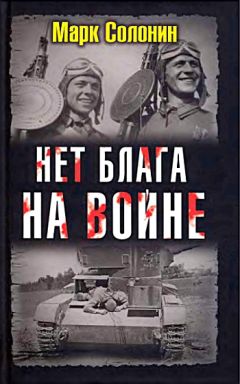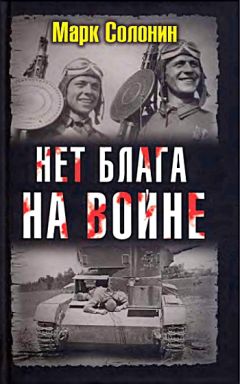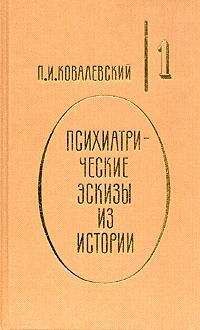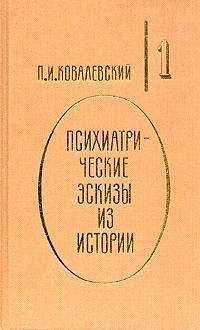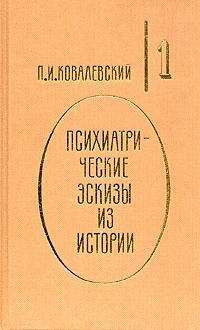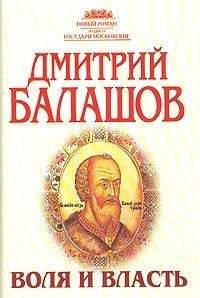А. Фурсов - De Secreto / О Секрете

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "De Secreto / О Секрете"
Описание и краткое содержание "De Secreto / О Секрете" читать бесплатно онлайн.
Сборник научных трудов логически продолжает сборники «De Conspiratione/О Заговоре» (М., 2013) и «De Aenigmate/О Тайне» (М., 2015). В представленных работах исследуется ряд скрывающихся за завесой секретности событий XIX–XX вв. Речь идёт о событиях мировой борьбы за власть, информацию и ресурсы.
Однако в начале века этого опыта ещё не было. Тогда часть московских профессоров приняла термин «шизофрения» в штыки: объединение психозов, представляющихся разными по происхождению (например, дебютирующих после родов или стресса), под одной рубрикой они считали неправомерным. К этим сомневающимся принадлежал и В.П. Сербский, имя которого носит нелюбезный диссидентам Институт общей и судебной психиатрии.
Снежневский учился у Тихона Ивановича Юдина, который работал у Крепелина. Автор термина «ипохондрическая шизофрения» Семён Консторум учился у Артура Кронфельда, преподававшего в Берлине и Москве. Само понятие о вялотекущих шизофрениях было позаимствовано у Ойгена Блейлера («мягкие формы»), а не выдумано «врачами-карателями». Груня Ефимовна Сухарева и Татьяна Павловна Симеон, родоначальницы советской детской психиатрии, еще в конце 1920-х гг. описывали мягкие (малопрогредиентные) варианты разных форм шизофрении в школьном возрасте.
Советская психиатрия была свободнее американской и европейской. Кафедра Крымского мединститута во главе с профессором А.Н. Корнетовым (7) внесла очень интересный вклад в исследование психиатрической нозологии, сопоставляя средний возраст дебюта, тип течения (степень благоприятности, оцениваемый по динамике личностных изменений) и фабулы (тематику) переживаний у мужчин и женщин. Выводы, к которым пришли авторы, характеризовали не болезнь, а принципиальную разницу между полами: мужской пол — авангард человеческой цивилизации, женский пол консервативнее, прагматичнее и больше сосредоточен на личном, чем на общественном. И в рамках собственной эволюции большой психоз (шизофрения) поражает мужскую часть населения тяжелее, её дебюты у мужчин возникают раньше (в возрасте от 3 до 12 лет на трёх заболевших мальчиков приходится одна девочка). Мужчинам больше свойственны непрерывные психозы, женщинам — приступообразные, при которых исход благоприятнее. У женщин фабулы психотических переживаний приземлённее и в большинстве случаев включают сексуальные сюжеты. Будь такая работа опубликована на Западе, авторам не дали бы покоя возмущённые феминистки.
3. Спрос на патологию
«В деревне никто не сходит с ума», — утверждал Иосиф Бродский и был неправ. В русской культуре юродивый — фигура совсем не обязательно городского быта, а образы колдуний в фольклоре традиционно помещаются в сельский ландшафт. В деревне душевнобольной заметнее, чем в городе, и его поведение больше контрастирует с бытовой моралью. Особенно поведение «одержимой бесом» женщины — в силу тех особенностей, о которых писали сотрудники Крымского мединститута.
Психотическая патология встречается в любой среде и местности. Другое дело, что предметом всеобщего внимания оказываются известные люди и их окружение. Кроме того, в силу комплекса биологических и генетических причин болезнь приумножается в благородных фамилиях или изолированных религиозных или этнических популяциях. И, кроме того, психическая патология «ходит вместе» с творческими, да и не только творческими талантами. Отсюда появилось меткое французское определение шизофрении как «болезни королей и поэтов».
О взаимодействии таланта и душевной болезни первым из крупных психиатров написал Чезаре (Йезекиэль) Ломброзо, более известный как основоположник криминологической антропологии. Период 1860–1920 гг., когда на фоне упадка монархий на мировую сцену вышли фигуры и движения ниспровергателей, а философия и психология обогатилась новыми яркими и необычными авторитетами, давал много пищи для размышлений. Тем более что этот период обозначился не только прогрессом индустриальной цивилизации, но и стремительным развитием прессы.
Революционная публицистика издевалась над странностями монархов, цепляясь за каждый повод. Охранители устоев, напротив, стремились изобразить больными ниспровергателей. С развитием газетной индустрии критик уравнялся в статусе с художником слова — чему в России способствовал Некрасов, поставивший литературный памятник Добролюбову.
Но ни революционеры, ни философы, ни критики, бросившие вызов консервативным ценностям и классическому художественному творчеству, сколь бы ни вдохновлялись независимостью от влияния на их разум «сверху», со стороны государства и церкви, ничего не могли поделать с «влиянием изнутри». Психозы узников — декабриста Батенькова, землевольцев Ишутина и Худякова, народовольцев Конашевича и Арончика — ещё можно было, на уровне представлений того времени, списать на эффект тяжёлой неволи. Однако самоубийство в депрессии короля литературной критики Дмитрия Писарева в эту интерпретацию не укладывалось. Как и внезапный конец карьеры его коллеги Варфоломея Зайцева, замкнувшегося в себе и ушедшего в монастырь.
«Наконец-то ушло это наваждение», — говорила Наталия Александровна Герцен, когда у неё завершился приступ галлюциноза — и вместе с ним страсть к террористу Сергею Нечаеву. Тяжёлый непрерывно текущий психоз у сына Николая Гавриловича Чернышевского описан в романе Владимира Набокова «Дар».
Сами русские просвещенцы, заимствовавшие взгляд на мир у немецких агностиков и британских эмпирицистов (Локк был вначале кальвинистом, затем социнианцем; Дарвин был атеистом во втором поколении), были склонны объяснять душевные болезни результатом банальных внешних воздействий на гомеостаз организма. Писарев, страдавший биполярным аффективным психозом, маниакальную фазу не считал болезнью, хотя осознавал, что с ним происходит что-то необычное («опрокинув в уме своем всякие Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себе каким-то титаном, Прометеем, похитившим священный огонь»), В этом состоянии, которое у него не дошло до крайней степени возбуждения, он «опрокидывал в себя» Аристотеля и строчил бесконечный доклад о судьбе человека. За манией, в которой он и перестал быть христианином, пришла затяжная депрессия, причём с выраженным ипохондрическим элементом; в отличие от чистого меланхолика он испытывал резко выраженный, физиологический страх смерти. В это состоянии, по его самоописанию, его взгляд на мир достиг предельного скептицизма и одновременно он зафиксировался на собственном здоровье, считая причиной болезни неправильный режим в предыдущий период (когда он, как всегда бывает в мании, неделями не спал) и неправильное питание. Чтобы выйти из тягостного состояния, когда «даже свет и темнота, луна и солнце на небе казались мне декорациями и входили в состав общей громадной мистификации» (этот феномен именуется деперсонализацией), он практиковал различные диеты. Самоубийство он совершил на пике второй по счёту депрессии, когда к острой тревоге, в которой он не находил себе места, присоединился бред преследования.
Биологам-натуралистам, фотографически точно описанным Тургеневым в образе Базарова, была свойственна рациональная, вульгарно физиологическая интерпретация как здоровых, как и болезненных движений души, которая сама по себе воспринималась ими как разновидность физиологического отправления. Эра Просвещения развернула интерес учёных от человека к окружающему миру, что отождествлялось с прогрессом — при том, что понимание человеческой природы и мотивов человека, в том числе и собственных, упростилось до примитивности, скатилось на уровень ньютоновской механики. В то же время открытия, сделанные в точных науках, повышают как самомнение, так и убеждённость в неограниченных возможностях человека, который кажется более могущественным, чем Творец. И более того, ни в каких высших силах «над собою» не нуждается: они мешают, досаждают, строят препятствия к исследованиям, не дают сворачивать познавательные «Казбеки и Монбланы».
«Новые люди», о которых упоминают Достоевский и Толстой, формируют мыслительную среду, отвергающую вместе с «ненужным» Творцом духовную иерархию, поскольку открытия идут вразрез с поверхностно понятым Священным Писанием. Чем дальше, тем привычнее душевные движения объясняются законами физики и ещё не развитой физиологии. Законы термодинамики вторгаются как в романистику, так и в психологию; сложнейшие психопатологические феномены объясняются простым замедлением или ускорением нейрональных связей. Эмпирицистская психология внедряется в чужое пространство, а свой интерпретативный аппарат заимствует из законов термодинамики.
Открытие генов и элементарных частиц имплицитно подрывает картину теистической предопределённости: и человек, и Создатель знают, что ничего не знают, частицы создают равновесие сами по себе, закон сохранения и превращения энергии определяет всё сущее, от движений планет до движений души.
В так называемом Серебряном веке идеалы империи расходятся с интересами монархий — они становятся замшелым препятствием, как и землевладельческий класс. Монархические семьи уступают во влиянии финансистам, они внедряются в геополитику, ставя под контроль своих частных интересов и дипломатию, и генералитет. Idee fixe всех держав становится покорение Востока, a idee fixe востребованных и тиражируемых философов — идея сверхчеловека, «отменяющая» заповеди авраамических богословий.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "De Secreto / О Секрете"
Книги похожие на "De Secreto / О Секрете" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "А. Фурсов - De Secreto / О Секрете"
Отзывы читателей о книге "De Secreto / О Секрете", комментарии и мнения людей о произведении.