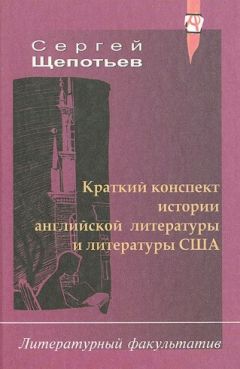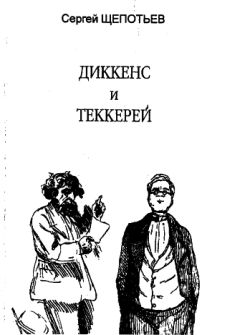Елена Невзглядова - Сборник статей
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Сборник статей"
Описание и краткое содержание "Сборник статей" читать бесплатно онлайн.
Невзглядова Елена Всеволодовна — филолог, критик, эссеист. Родилась в Ленинграде. Автор книги “Звук и смысл” (1998), других исследований в области стиховедения, а также статей о современной русской поэзии и прозе. Лауреат премии “Северная Пальмира”. Постоянный автор “Нового мира”.
Иное дело — метрическая речь стиха, которая, по сравнению с письменной прозаической речью, имеет свою характерную особенность произнесения. Но читатель, следуя этой особенности, не изображает чужую речь, как это происходит в прозе, когда герой, скажем, шепелявит, — он сам заражается этой манерой. Заимствование способа чтения приводит к присвоению речи поэта.
Читатель прозаического текста не присваивает ни диалектных особенностей, ни дефектов произношения, потому что он в любой момент может от них отказаться. В стихах отказ от особой манеры будет разрушителен для структуры текста и, как правило, вообще невозможен.
В огромном городе моем — ночь.
Из дома сонного иду — прочь.
И люди думают: жена, дочь —
а я запомнила одно: ночь.
В этом логаэде пауза после четвертой стопы похожа на запинку в речи. Читатель, вынужденный запинаться, запинается, так сказать, сам, а не изображает чью-то запинающуюся речь. Его собственная речь получает особенность в виде паузы-запинки и отказаться от нее нельзя: стихи перестанут быть стихами. Их ритмическая особенность должна быть выражена голосом. И читатель, проявляя слишком, что ли, телесное участие при произнесении текста, присваивает вместе с особенностью произношения саму речь. Он как бы оспаривает ее авторство.
В лирических стихах 1-е лицо говорящего экспроприируется произносящим.
Узнаю тебя, жизнь, принимаю
И приветствую звоном щита, —
не Блок сообщает о себе читателю, а читатель говорит о себе словами Блока.
Смысл, который выражается интонацией, как бы выдается “на предъявителя”, он принадлежит говорящему. Иначе пришлось бы предположить, что читатель копирует чужую манеру речи, передразнивает ее и в любую минуту может ею пренебречь.
Читатель лирических стихов как бы играет роль поэта. Читая текст лирического стихотворения (неважно — вслух или про себя), читатель становится адресантом этой речи, Потому что не мотивированный лексико-грамматическим элементом способ произнесения, которому он вынужден следовать, заставляет его быть не столько слушающим, сколько говорящим.
В этих условиях непроизвольной подстановки, когда адресат автоматически становится адресантом, можно говорить об отсутствии адресата вообще. Ведь если любой адресат, произнося текст, становится адресантом, речь по существу лишается адресата.
Мы говорим о лирике. В этом типе речи имеет место установка на сам речевой акт. Не на “план выражения” (опоязовцы) и не на само сообщение (Р. Якобсон, поэтическая функция), а на иной характер речи — неадресованный, Несообщительный, возникающий в результате определенного интонирования. Эта речь не имеет характера рассказа по той причине, что обслуживающая речевую логику повествовательная интонация заменена в ней перечислительной монотонией. Содержание этой речи может по видимости ничем не отличаться от содержания речи, обращенной к конкретному собеседнику, но интонационное изменение преобразует сообщение в говорение — назовем это так, — разговор с самим собой, бескорыстное обращение к Богу, альтернатива молитве.
Дело не в том, что поэт не имеет в виду читателя (наоборот, когда он называет в качестве адресата какое-то лицо, все равно он имеет в виду читателя, причем, как сказано, читателя-потомка), а дело в том, что он к нему не обращается. Может быть, вообще здесь не имеет смысла говорить о сообщении. В русском языке “сообщать” означает передавать что-то кому-то. Есть такие виды получения речевой информации, при которых не происходит непосредсвенной передачи смысла. Так, разговор, случайно услышанный в транспорте или доносящийся с улицы в окно, для невольного слушателя, строго говоря, сообщением не является, потому что не ему адресована речь и он не включен в речевую ситуацию. Той же особенностью обладают так называемые “реплики в сторону” в драматических жанрах и те монологи на сцене, которые не обращены к партнеру: рассчитаны на зрителя, но не обращены к нему. Подобные отношения связывают поэта с читателем.
Отсутствие сообщения отнюдь не означает отсутствия сведений в речи, информации. Только информация интонационно не носит информирующего характера; сведения как бы не имеют осведомительной цели. В лирических стихах характер речи. меняется. Вытесняя повествовательную интонацию, читатель тоном голоса вытесняет из речи адресата. Конечно, читатель принимает заключенные в стихотворных высказываниях сообщения: “принесли букет чертополоха…”; “я памятник себе воздвиг нерукотворный...”; “приятель строгий, ты не прав...” и т.д. Он, конечно же, понимает, что это Пушкин, а не он, читатель, воздвиг себе памятник и, разумеется, не приписывает себе его достоинств. Под “строгим приятелем” Баратынского он может иметь в виду какого-то своего приятеля, а может никого не иметь в виду, даже если знает, что это обращение адресовано Фаддею Булгарину. Присвоению подвергается сам процесс речи.
Лирические стихи — говорение. Поэт, как бы отвернувшись от слушателя, говорит сам с собой, и читатель по его замыслу должен сделать то же самое. В этом смысле для поэта очень удобен прием обращения, которому так привержена лирическая поэзия. Он, во-первых, вклинивается между поэтом и читателем, подчеркивая, что поэт обращается не к читателю. Во-вторых, нарушает повествовательную интонацию вводным элементом. Вспомним мандельштамовское: “Не уставая рвать повествованья нить...”
Что можно сказать об обращениях к друзьям (в дружеских посланиях), к женщине (в любовной лирике, в жанре мадригала) и многочисленных обращениях, которыми пестрит лирическая поэзия? Все это, с нашей точки зрения, примеры фиктивной коммуникативности. Названный адресат — это всегда в каком-то смысле обман, обходной маневр и если не подставное лицо, то по крайней мере промежуточная инстанция на пути к “провиденциальному собеседнику”, Это один из тех “возвышающих обманов”, без которых не может обойтись искусство, формальность этого приема подтверждается частым обращением лирического поэта к неодушевленным предметам (“О, весна без конца и без края...”; “Простите, милые досуги...”; “К моей чернильнице” и т.д. и т.п.). В прозаической речи, кроме известного обращения к шкафу (“Дорогой многоуважаемый шкаф”), подобные случаи нам не известны, если не учитывать имитацию пьяных речей: пьяные любят обращаться к бутылке, к своему сапогу и проч. Эту странность стихотворной речи мы не замечаем, потому что она растворена в другой самой большой ее странности, к которой мы тоже привыкли: лирический поэт говорит сам с собой, он обречен на это “безумие”. И если обратить внимание на частоту обращений в лирике, то она лишний раз подчеркивает условность этого приема.
Кроме того, наличие грамматической категории обращения, еще не означает присутствия соответствующей интонации адресованности.
Какое множество интонационных выражений может иметь в естественно-речевой ситуации, например, приведенное ранее обращение Баратынского: “Поверь, мой милый друг...” Эти слова могут быть произнесены и с горячей убежденностью, и с робкой просьбой, и жалобно-увещевательно, и насмешливо-иронически. Актеры, которые совершают произвольный выбор возможного смысла, с нашей точки зрения, нарушают замысел автора. Все, что не вписано в стихотворную речь, автором не предусмотрено (то, что предусмотрено, должно быть вписано). В стихах эти слова должны произноситься с перечислительной интонацией, выражающей установку на стихотворную речь.
Еще один пример из многочисленных посланий Баратынского — “К Креницыну”.
Товарищ радостей младых,
Которые для нас безвременно увяли,
Я свиделся с тобой! В объятиях твоих
Мне дни минувшие, как смутный сон, предстали!
О милый! я с тобой когда-то счастлив был!..
Читающий, т.е. произносящий эти стихи, ощущает “осязаемость” слов; например, в стихе:
которые для нас безвременно увяли, —
чувствует “динамизацию” указательного местоимения “которые” (как это показал Ю.Н.Тынянов (Тынянов, 1965, 114) на примере из Пушкина:
И в пеленах оставила свирель,
Которую сама заворожила) —
т.е. воспринимает эти стихи не столько как речь Евгения Абрамовича, обращенную к Александру Николаевичу, с которой ему предложено ознакомиться, сколько как собственную речь, говорение. Одно из двух: или ты воображаешь беседу между Баратынским и Креницыным, в которой один говорит, а другой слушает, или сам произносишь стихи и в процессе говорения печально недоумеваешь:
Где время прежнее, где прежние мечтанья? —
и ощущаешь горечь укороченной строки во II строфе:
Все хладный опыт истребил!
Эти мелкие стиховые заботы, связанные с чувствами и ощущениями, выталкивают из сознания читателя реальность беседы Баратынского с Креницыным, реальность обращения; стихами не говорят. В подобных случаях реализовывать обращение так же не нужно, как реализовывать смысл метафоры. Никто не представляет наглядно смысл таких, например, строк: “Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними” [Книга Песни Песней Соломона. Гл. 4, ст. 2]. Точно так же излишне воображать конкретный адресат, это не входит в авторский расчет, о чем говорят все эти условные Леилы, Делии, Бобо и проч.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Сборник статей"
Книги похожие на "Сборник статей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Невзглядова - Сборник статей"
Отзывы читателей о книге "Сборник статей", комментарии и мнения людей о произведении.