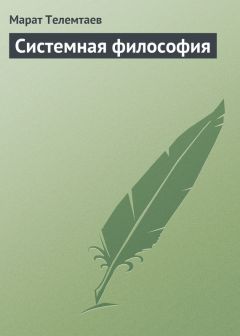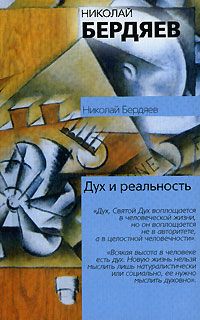Осип Бескин - Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика
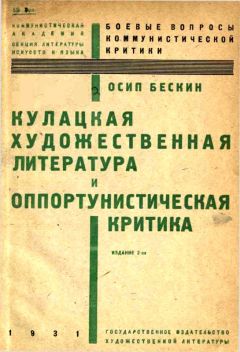
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика"
Описание и краткое содержание "Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика" читать бесплатно онлайн.
«Она еще доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по „престольным“ праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным, распаренным развратом, с изуверской верой, прежде всего апеллирующей к богу на предмет изничтожения большевиков, с махровым антисемитизмом, с акафистом, поминками и всем прочим антуражем.
Еще живет „россеянство“, своеобразно дошедшее до нашего времени славянофильство, даже этакое боевое противозападничество с верой по прежнему, по старинке, в „особый“ путь развития, в народ-„богоносец“, с погружением в „философические“ глубины мистического „народного духа“ и красоты „национального“ фольклора».
Как далеки эта любовь к природе и ненависть к городу от идиллического руссоистского представления о них некоторых горе-критиков, порочащих марксизм. Думаю, что на одних разговорах о талантливости и богатстве фольклорных образов нашим Полонским больше ездить не придется. Придется кое-что додумать.
Горе-любители талантливого пейзанства не дали себе труда разглядеть в этом творчестве оскаленные клыки озлобленного кулачья, эпигонов, недоносков-«богатырей» феодальной Руси, ополчившихся на все основы нашего строительства, подрывающих в «высокой художественной форме» самое основное, самое насущное для нашего времени.
Ведь недаром жгучая ненависть к городу опосредствуется у кулацких писателей в злобе к машине. Это она, сдвигающая патриархальное, пресекающая широчайшие кабальные возможности, нарушающая вековечную соотнесенность кровавого пота бедняка с доброй «душевной услужливостью» кулака меньшому брату (основа основ россеянского воспевания души) — это она виновница нарушения хищнического, накопительского, от веку положенного и долженствующего существовать до тех пор, «пока земля на другой бок повернется», уклада.
Извлекая из нафталина истории старенькую, замусоленную руссотяпскую формулу— что русскому здорово, то немцу смерть — пустоватый и примитивный Орешин изрекает:
«Пускай кичатся заморяне
Своим железным животом;
Степные русские крестьяне,
Мы радостью другой живем».
Машина, железо— страшный конкурент возлюбленной кулацкой деревянной сохи.
Железо для них страшный символ дьявольского большевистского барства. Железу посвящает средневеково-истовый Клюев одноименное стихотворение, обвинительный акт сегодняшнему дню.
Его «Железо» может быть рассматриваемо двояко: с одной стороны — как символ промышленности, с другой — как прямая непосредственная средневековая адресация к «душе» наиболее ненавистного материала, угрожающего патриархальному благополучию.
Курсив вскроет без всякой трудности философию этих, строк:
«Безголовые карлы в железе живут,
Заплетают тенета и саваны ткут,
Пишут свиток тоски смертоносным пером,
Лист убийства за черным измены листом.
Шелест свитка и скрежет зубила-пера
Чуют Сон и Раздумье, Дремота-сестра…
Оттого в мире темень, глухая зима,
Что вселенские плечи болят от ярма,
От железной пяты безголовых владык,
Что на зори плетут власяничный башлык,
Плащаницу уныния, скуки покров,
Невод тусклых дождей и весну без цветов».
Прочтите только курсивом взятые слова, и перед вами зацветет программная расшифровка орешикских «неласковых дней» и «железных оков», и обыкновеннейшие коммунисты предстанут пред вами в черных одеждах как «безголовые владыки», «железной пятой» попирающие кулацкую, кровососную сельскую идиллию.
Несмотря на исключительную «убедительность» доводов поэтов-«россеян» и на реальное сопротивление их социальных заказчиков — кулацкой деревни, наступление города идет форсированным темпом. И, о ужас! Не только города, но и его союзника в лице новой деревни, новой деревенской общественности. Деревня коллективизируется. Обреченность старо-деревенского уклада очевидна и ежедневно реально ощутима. Антихристово порождение — диктатура пролетариата — делает свое дело. С железной закономерностью отсюда должна проистечь пессимистическая настроенность «россеян».
И действительно пессимизмом проникнуто все их творчество. Клычков, тот даже через пессимизм, через радость смерти пытается утвердить свое духовное превосходство над враждебной современностью:
«Оттого мне вражьей силы
Не страшон земной полон:
Мне, как жизнь, мила могила
И над ней, как песня, звон».
Все происходящее, все современное для него прах и тлен. Вся наша борьба естественно страшна, кошмарна. Настоящее только в смерти:
«И будет час: из рук от страху
Дорожный выпадет костыль —
И впереди не будет праху,
А позади лишь прах и пыль».
Обиженный деревенский Тит Титыч, не видящий уже на земле «хороших дел», печально устремляется в потустороннее, грустно констатирует, что «мирно ляжет тело под исподь, и погребенья сами взалчут кости», утешается тем, что «жизнь вся пройдет, как приснится, как она б тяжела ни была», и надеется, как полагается в таких случаях… на душу, ибо:
«Одной душе даны, как птице, крылья,
Чтоб в смертный час вспорхнуть и улететь».
И Орешин, кажущийся на первый взгляд бесшабашным, Орешин второй, в пессимистическом миноре, подпевает Клычкову:
«Не гляди тревожно,
Месяц, на загон.
Все на свете ложно,
Все на свете сон».
Пессимизм, как правило, перерастает в мистицизм; мистицизм всегда сопровождается той или иной формой религиозности.
Для поэтов «россеян» этот процесс сложнее. Он, так сказать, удвоен. Ряд, указанный выше, усиливается специфическими чертами, присущими реакционной патриархальщине кулачества. Мы имеем в виду мистическо-религиозный пантеизм и мистицизирование предметов бытового обихода. Первый сказывается в обожествлении природы как единственной подательницы благ, а второй— в придании всем вещам, предметам живой потребительско-мистической сущности. Поддержание во всей ортодоксальной неприкосновенности мистических суеверий в соответствии с тем, что на неприкосновенности устоев (бог — земля— «удача»), на иерархичности всего окружающего «всходит» его жизнь.
Творчество разбираемой триады демонстрирует перед нами поразительную по яркости картину реакционной «крестьянской» мистики. Она стара, как Русь, и во всей ее нерушимости стараются поэты-«россеяне» подать ее спокойную, «вековечную» красоту, чтобы противопоставить динамичности нашей эпохи.
Сохранены на разживу «звериный бог Медост», «верезжащий в осоке проклятый (некрещенный— О. Б.) младенчик»; «пасет преподобный Аверкий на речке буланых утят» (Клюев); «Лель цветами все поле украсил», «лик троеручицы», «очажный бес» (Клычков) и т. п. Много можно перечислить из этой «современной» компании.
Мастерство поэтов-«россеян» утончает, рафинирует религиозно-мистические переживания; оно проникнуто молитвенным восприятием природы.
Клычков и Клюев во всех сравнениях и уподоблениях природы положительно являются большими мастерами жанра «церковного пейзажа».
У Клюева «месяц— божья камилавка»; «молвь отшельниц — елей»; «монашенка… мгла»; «как ангелок поет снегирь»; апрель — «с вербой монашек, на груди образок», «солнце — божья коровка», которую надо «аллилуйем встречать», «лики ангелов в бору», «лесные сумерки — монах»; «богомольно старцы-пни внимают звукам часословным», «заря тускнеет венчиком иконным».
Вот весна в изображении Клюева:
«Набух, оттаял лед на речке,
Стал пегим, ржаво-золотым,
В кустах затеплилась свечка,
И засинел кадильный дым.
Березки — бледные белички,
Потупясь, выстроились в ряд.
Природы радостный причастник,
На облака молюсь и я,
На мне иноческий подрясник
И монастырская скуфья».
От Клюева не отстает Клычков. Образы совпадают. Они зявляются стандартными и изготовлены конечно давным-давно, в предреволюционное время под сенью самодержавия и православия. Как и у Клюева, старорусское язычество перерастает в церковность. «Звезда горящая, как свечка, пред светлым праздником зари». Только и отдыха, что на лоне природы-церкви:
«Вернулся я из битвы
И, горе позабыв,
Все слушаю молитвы
Лесных печальниц ив».
Если у Клюева религиозность мистическо-философского, средневекового склада, то у Клычкова она сентиментально-бытовая, елейно истовая:
«Прощай родимая сторонка,
Родная матушка, прости,
Благослови меня иконкой
И на дорогу покрести».
Как указывалось выше, мистическая религиозность «россеян» окрашивает не только отношение к природе. Она становится особенно характерной, когда прикасается к вещам обиходным. Делание вещей и продуктов— это не просто производственный процесс, это мистерия утверждения своего господства, своих дальнейших возможностей. Это свято, это от бога, который крупицу своей сущности вкладывает в каждую новую вещь, в каждую лишнюю ковригу; от бога, который, покровительствуя патриархальной идиллии, одновременно защитит от вражеской антихристовой силы города.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика"
Книги похожие на "Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Осип Бескин - Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика"
Отзывы читателей о книге "Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика", комментарии и мнения людей о произведении.