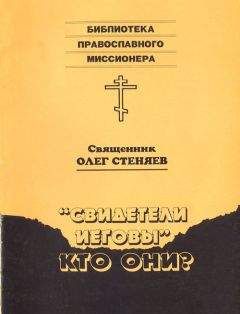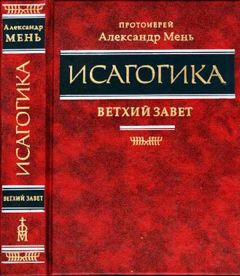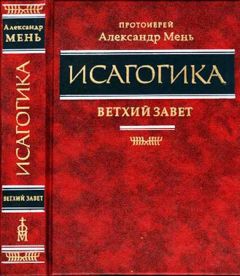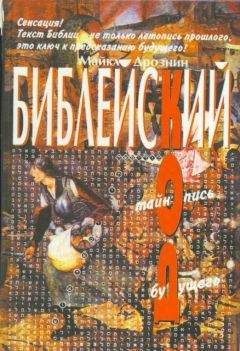прот. Лев Лебедев - Москва патриаршая

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Москва патриаршая"
Описание и краткое содержание "Москва патриаршая" читать бесплатно онлайн.
Царь, бояре, епископы, духовенство и народ перед Евангелием и иконами поклялись исполнить все, что предложил Никон. После этого Никон изрек свое согласие. 25 июля он был посвящен в патриарха Московского и Всея Руси собором архиереев во главе с митрополитом Казанским Корнилием в присутствии царя и множества народа в том же Успенском соборе Кремля108.
Условие всеобщего себе послушания в делах веры, поставленное Никоном, - явление необычное и требует объяснений. Прежде всего следует вспомнить, что Никон - воспитанник русского монастыря, и его психология - это психология монастырская. Он смотрел на патриаршество как на игуменство в большом монастыре. А монастырская жизнь - это прежде всего послушание, подвиг добровольного отсечения своей воли в пользу игумена, который вовсе не тиран и властитель (в мирском смысле), а отец, пекущийся о душевном спасении своих чад. Такого послушания себе как отцу и всероссийскому игумену и потребовал Никон. Иначе он не мог и не хотел мыслить себе своего настоятельства Россией.
Такой взгляд на вещи имел глубокое основание в жизненном укладе и мировосприятии людей России того времени. В основе русской духовной жизни лежали Священное Писание, Типикон, сочинения отцов церкви и жития святых. Содержанием этих книг, самим духом традиционного православия и определялась жизнь всего общества. Любое земное общество человеческое далеко неоднородно. В нем всегда есть и отпетые грешники, и люди «половинчатые», подверженные отчасти греху, отчасти добродетелям, и наконец - люди святые. Русское общество было достаточно богато явлениями как отрицательного, так и положительного характера. И все же можно говорить о господствующем «духе общества» и судить о нем по тем духовно-нравственным идеалам, которые являются общепризнанными. В народных массах святых людей так же мало, как золота в массах земли, но оттого-то и велика их духовная ценность и притягательная сила примера! Вопрос лишь в том, кого общество почитает святым, перед каким образом жизни оно преклоняется?
Россия середины XVII века более всего чтила монахов-подвижников и Христа ради юродивых. Всецелое отречение от страстей и суеты мира сего признавалась всеми самым верным и лучшим образом жизни во Христе. Благочестивые русские люди на смертном одре стремились принять монашество и даже схиму. Не все могли стать иноками в полном смысле этого слова, но все должны были быть подвижниками, - таково было общее убеждение. Даже люди, погрязшие, казалось бы, в самой глубине грубейших страстей, знали, что они совершают грех, и пред подлинной христианской святостью испытывали истинное благоговение. Павел Алеппский, наблюдавший в это время Россию церковную, за богослужением и молитвой, рисует поразительно светлый лик русского православия, сообщает яркие примеры народного благочестия, необычной любви народа к Церкви. «Монахи подражают ангелам, а мирские должны подражать монахам» - эти слова Иоанна Лествичника можно считать девизом русского общества середины XVII века. Монашеский в основе своей устав церковной жизни и службы не знал различий между монастырем и обычным приходом, был одинаково обязателен для всех. Сердечная привязанность русских людей к своей вере и Церкви являлась могучим источником народного патриотизма.
С этой точки зрения Россия в самом деле была чем-то вроде огромного монастыря со своими писанными и неписанными уставами, духовными традициями и обычаями. «Свой монастырь» старались ревниво ограждать от всех чуждых влияний, особенно от западных. В настоятельство этим «монастырем» и вступал Никон, и поэтому его требования при избрании на патриаршество были всеми поняты и у современников его не вызывали недоумений.
Не следует, повторяем, идеализировать духовное состояние общества того времени. Именно поэтому Никон и взял у России обещание в послушании, что прекрасно понимал и знал, что в обществе, как, впрочем, и в монастыре, далеко не все благочестивы и послушны. Это относилось в особенности к высшему сословию. Когда Никон, еще будучи митрополитом, ездил за мощами св. Филиппа, в его свите находились некоторые царские сановники, в том числе - князь Иван Хованский, который написал царю слезную жалобу, говоря, что он совсем «пропал» и «пропасть» его состояла в том, что Никон заставил его присутствовать ежедневно на молитвенном правиле. Алексей Михайлович по этому поводу сообщает Никону: «Да и у нас перешептывали на меня: никогда такого бесчестия не было, что теперь государь нас выдал митрополитам». Царь «молит» Никона, чтобы он освободил Хованского от молитвы, замечая при этом: «Добро, государь, учить премудра, премудрее будет, а безумному - мозолие ему есть...» Царь пишет далее, чтобы Никон не говорил князю, что узнал о его жалобах от царя, но сказал бы, что ему «от других» стало известно об этом109. Павел Алеппский рассказывает, как однажды Алексей Михайлович приказал при всем народе бросить в Москву-реку нескольких бояр, не явившихся к воскресной литургии, приговаривая: «Вот вам награда за то, что вы предпочли спать со своими женами в утро этого благословенного дня»110.
Именно в высшем сословии (как нигде больше) находило себе страстных поклонников влияние Запада, заползавшее в Россию через Немецкую слободу в Москве, гостиные дворы и лавки иностранцев в других крупных городах111. Так что прежде всего от придворной знати (для которой послушание духовному лицу казалось «бесчестием») мог ожидать Никон противодействия своей патриаршей власти. Эта знать была важнейшим звеном системы государственного управления страны. Во главе системы стоял царь. Патриарх - и царь... Церковь - и государство. Два начала в одном православном обществе... Это как дух и плоть в одном существе человека. При общей греховной поврежденности определенная борьба между ними неизбежна. В России за всю ее многовечную историю был известен только один серьезный конфликт между Церковью и монархией - при Иване Грозном. После Смутного времени особым промыслом Божиим обществу был указан образ отношений монархии и Церкви: царем был избран Михаил Федорович, а патриархом оказался его родной отец - Филарет (Федор) Романов... Если любовь и согласие царя Михаила и патриарха Филарета основывались на кровном, плотском родстве, то отношения Алексея Михайловича и патриарха Никона восходили на новую, высшую ступень, становясь союзом духовной любви, родства во Христе. Большего и лучшего и быть не могло! В то же время это было и самым естественным и здоровым для христианского общества, где многое строилось не только (и не столько) на законе, сколько на духе подлинной семейной любви и братства. Можно сказать, что неразрывное, хотя и не смешиваемое, единство государственной и церковной власти составляло естественную основу общественной жизни Руси. Духовное главенство при этом, конечно, принадлежало Церкви, но оно было именно духовным и никогда не превращалось в главенство политическое. В свою очередь и царь (за исключением Ивана Грозного) никогда не использовал своей политической самодержавности для самоуправства по отношению к Церкви, так как конечный смысл жизни всего русского общества в целом, включая царя, состоял в том, чтобы в Церкви и через Церковь обретать временное и вечное единение с Богом. При тогдашних системах управления личные отношения царя и патриарха в значительной мере с неизбежностью превращались в отношения государства и Церкви. О личных отношениях патриарха Никона и Алексея Михайловича Шушерин пишет так: «Между же оными любовь тако велика бысть, яко едва когда и на малое время в Российском царстве между царей и святейших патриархов бяше, оною же не точию все Российское царство радовашеся, но и многия окрестныя царствия слышавше удивляхуся»112.
Что касается управления церковными делами, то для XVII века характерна подчиненность их и государственным и церковным инстанциям, так что можно определенно говорить о двуедином (церковно-государственном) управлении Русской церковью. При этом мера и характер государственного участия в церковном управлении не была определена, изменялась, не имела строго очерченных граней, во многом зависела от произвола государей.
Первейшей задачей Никона явилось поэтому всемерное обеспечение должного приоритета церковной власти в делах Церкви. Между Никоном и Алексеем Михайловичем с самого начала была достигнута договоренность, и как полагают, даже закрепленная особой грамотой113, согласно которой царь представлял патриарху полную самостоятельность в управлении Церковью, то есть всеми богослужебными делами, назначением и перемещением духовенства, судом по чисто духовным делам. Церковные владения и денежные средства считались общенациональным достоянием. В случае особой нужды (например, войны) царь мог безвозмездно взять столько церковных средств, сколько было нужно. Власти епархий и монастырей могли расходовать лишь строго определенные деньги на текущие нужды. Все непредвиденные и крупные расходы делались только с разрешения царя. Во всех монастырях и епархиальных управлениях постоянно пребывали государственные чиновники, под бдительным контролем которых находились церковные имения и средства. Они же судили церковных крестьян и других людей по гражданским и уголовным делам. Особый Монастырский приказ в Москве согласно «Уложению» 1649 года ведал все духовенство, кроме патриарха, по гражданским и уголовным делам. Хотя Никон в 1649 году вместе со всеми поставил свою подпись под «Уложением», он внутренне не был с ним согласен, а сделавшись патриархом, заявил об этом открыто. Больше всего его возмущало, что светские лица - бояре Монастырского приказа - имели право судить по гражданским искам духовных лиц. Он считал это положение в корне нецерковным и нехристианским. Еще в бытность Никона митрополитом Новгородским царь, знавший его взгляды, дал ему «несудимую грамоту» на всю митрополию, согласно чему из ведения Монастырского приказа на суд митрополита передавались все дела подчиненных церкви людей, кроме дел «убийственных, татных и разбойных». Став патриархом, Никон оформил такую же неподсудность Монастырскому приказу своей Патриаршей епархии (а в то время патриарх, как и все правящие архиереи, имел свою особую епархию, состоящую из Москвы и обширных прилегающих земель). Как бы в противовес «Уложению» 1649 года Никон издал «Кормчую книгу», содержащую святые каноны Церкви и различные узаконения о Церкви древних благочестивых греческих царей. Как мы увидим, до конца своего патриаршества Никон не переставал бороться против Монастырского приказа. Следует отметить, что это была борьба не за полную «свободу» Церкви от государства (чего в России того времени и быть не могло), а лишь за восстановление должного канонического авторитета патриарха и всего духовенства в делах сугубо духовных, а также за некоторое допустимое условиями России расширение прав церковной власти над подчиненными людьми по гражданским делам.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Москва патриаршая"
Книги похожие на "Москва патриаршая" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " прот. Лев Лебедев - Москва патриаршая"
Отзывы читателей о книге "Москва патриаршая", комментарии и мнения людей о произведении.