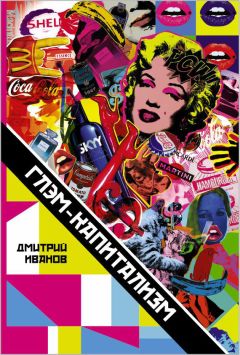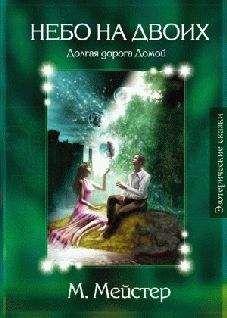Жиль Делез - Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато"
Описание и краткое содержание "Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато" читать бесплатно онлайн.
Второй том «Капитализма и шизофрении» — не простое продолжение «Анти-Эдипа». Это целая сеть разнообразных, перекликающихся друг с другом плато, каждая точка которых потенциально связывается с любой другой, — ризома. Это различные пространства, рифленые и гладкие, по которым разбегаются в разные стороны линии ускользания, задающие новый стиль философствования. Это книга не просто провозглашает множественное, но стремится его воплотить, начиная всегда с середины, постоянно разгоняясь и размывая внешнее. Это текст, призванный запустить процесс мысли, отвергающий жесткие модели и протекающий сквозь неточные выражения ради строгого смысла…
Челленджер хотел двигаться все быстрее и быстрее. Никого не осталось, но он, несмотря ни на что, продолжал. Изменение в его голосе и в его облике становилось все более явными, в нем появилось что-то животное, когда он заговорил о человеке. На это пока трудно было указать, но Челленджер, казалось, детерриторизовался на месте. Ему захотелось рассмотреть еще три проблемы. Первая казалась прежде всего терминологической: когда мы можем говорить о знаках? Должны ли мы сказать, что они есть повсюду на всех стратах и что знак имеется всякий раз, как только имеется форма выражения? Мы суммарно различаем три вида знаков: признаки (территориальные знаки), символы (детерриторизованные знаки) и иконические знаки (знаки ретерриторизации). Должны ли мы сказать, что знаки есть на всех стратах, — под тем предлогом, что каждая страта включает территориальности и движения детерриторизации и ретерриторизации? Такой тип расширенного метода весьма опасен, ибо он закладывает фундамент для империализма языка или укрепляет последний, если полагаться только на его функцию как универсального переводчика или интерпретатора. Очевидно, что нет никакой системы знаков, пересекающей все страты, нет ее даже в форме семиотической «хоры», которая, как предполагается, теоретически предшествует символизации. Казалось бы, мы можем строго говорить о знаках только тогда, когда есть различие между формами выражения и формами содержания, которое не только реально, но также и категориально. Тогда на соответствующей страте существует семиотическая система, поскольку абстрактная машина обладает именно такой полностью подготовленной позицией, позволяющей ей «писать», то есть трактовать язык и извлекать из него некий режим знаков. Но по эту сторону, в так называемых естественных кодировках, абстрактная машина остается окутанной стратами — она не пишет, и у нее нет никакой степени свободы для опознавания чего-либо как знака (кроме как в строго территориальном смысле животных знаков). А по ту сторону абстрактная машина развивается на плане консистенции и более не обладает никаким способом создавать категориальное различие между знаками и частицами; например, она пишет, но пишет на одном и том же реальном, она вписывает прямо в план консистенции. Поэтому кажется разумным зарезервировать слово «знак» в строгом смысле для последней группы страт. Такое терминологическое обсуждение было бы совершенно неинтересным, если бы оно не отсылало нас все же к другой опасности — уже не империализм языка на всех стратах, но империализм означающего в самом языке, в совокупности режимов знаков и на всем протяжении страт, которое несет эти режимы. Речь уже идет не о том, чтобы знать, прикладывается ли знак к каждой страте, а о том, являются ли все знаки означающими, наделены ли все знаки значением, отсылает ли с необходимостью семиотика знаков к семиологии означающего. Возможно даже, что на этом пути мы вынуждены будем воздержаться от понятия знака, ибо главенство означающего над языком обеспечивает главенство языка над всеми стратами еще лучше, чем простая экспансия знака во всех направлениях. Мы хотим лишь сказать, что иллюзия, свойственная такому положению абстрактной Машины, — иллюзия захватывать и перемешивать все страты в своих клешнях — наверняка может быть лучше осуществлена через восстановление означающего, нежели чем через распространение знака (благодаря означиванию язык может быть задействован прямо на стратах, независимо от прохождения через знаки, предполагаемые каждой стратой). Но мы всегда вращаемся в одном и том же круге, мы растравляем одну и ту же язву.
Лингвистическое отношение между означающим и означаемым, несомненно, понималось весьма разными способами: то как произвольное, то как необходимое (вроде двух сторон одного и того же листа), то как согласующее [их друг с другом] термин за термином или глобально, то как настолько амбивалентное, что мы уже не можем его различать. В любом случае, означаемое не существует вне своего отношения с означающим, а окончательное означаемое — это само существование означающего, которое мы экстраполируем по ту сторону знака. Что касается означающего, то мы можем сказать лишь одно: оно является Избытком, оно и есть Избыточное. Отсюда его невероятный деспотизм и успех, который оно осознает. Такое отношение — будь то произвольное, необходимое, согласующее [их друг с другом] термин за термином или глобально, амбивалентное — служит одной и той же причине, которая заключает в себе редукцию содержания к означаемому и редукцию выражения к означающему. Итак, формы содержания и формы выражения в высшей степени относительны и всегда пребывают в состоянии взаимопредположения; они поддерживают между своими соотносительными сегментами дву-однозначные — внешние и «уродливые» — отношения; нет никакого соответствия между этими двумя формами, соответствия одной другой, но всегда есть реальная независимость и реальное различие; чтобы приспособить одну форму к другой, чтобы определить эти отношения, даже требуется особая вариабельная сборка. Ни одна из этих характеристик не годится для отношения означающее — означаемое, даже если некоторые характеристики, как кажется, частично и случайно совпадают с ним. В целом все эти характеристики радикально противостоят картине означающего. Форма содержания не является означаемым, так же как и форма выражения не является означающим.[73] Это верно для всех страт, включая и те, куда внедряется язык.
Поклонники означающего в качестве неявной модели сохраняют слишком упрощенную ситуацию — слово и вещь. Из слова они извлекают означающее, а из вещи — означаемое, соответствующее слову и потому подчиненное означающему. Они устанавливаются в сфере того, что является внутренним для языка и однородным языку. Давайте обратимся к образцовому анализу Фуко, который прежде всего касается лингвистики, хотя таковым и не кажется, — возьмем, к примеру, такую вещь, как тюрьма. Тюрьма — это некая форма, «тюрьма-форма», форма содержания на некой страте, пребывающая в отношении с другими формами содержания (школой, казармой, больницей, заводом). Такая вещь или такая форма отсылает не к слову «тюрьма», а совсем к другим словам и концептам, таким например, как «преступник» и «преступность», выражающим новый способ классифицировать, утверждать, переводить и даже совершать преступление. «Преступность» — это форма выражения во взаимопредположении с формой содержания «тюрьма». Преступность никоим образом не является означающим, даже юридическим, означаемым которого была бы тюрьма. Так мы ослабили бы весь анализ. Впрочем, форма выражения сводится не к словам, а ко всему высказываемому, возникающему в социальном поле, рассматриваемому как страта (именно это и есть режим знаков). Форма содержания сводится не к вещи, а к сложному состоянию вещей как формации власти (архитектура, программа жизни и т. д.). Тут есть как бы два постоянно пересекающихся многообразия — «дискурсивные многообразия» выражения и «недискурсивные многообразия» содержания. И это сложно именно потому, что тюрьма как форма содержания сама обладает собственным относительным выражением, всеми видами высказываемого, специфичными для тюрьмы и которые не обязательно совпадающими с высказываемым преступности. Наоборот, преступность как форма выражения сама обладает собственным автономным содержанием, ибо она выражает не только новый способ оценивания преступлений, но и новый способ их совершения. Форма содержания и форма выражения, тюрьма и преступность — каждая обладает своей историей, своей микроисторией, своими сегментами. Еще в большей степени они подразумевают, наряду с другими содержаниями и выражениями, одно и то же состояние абстрактной Машины, действующей вовсе не как означающее, а как своего рода диаграмма (та же самая абстрактная машина для тюрьмы, школы, казармы, больницы, завода…). И чтобы подогнать друг к другу оба типа форм — сегментов содержания и сегментов выражения, — требуется целая конкретная сборка о двух клешнях или, скорее, о двух головах, принимающая во внимание их реальное различие. Нужна целая организация, артикулирующая формации могущества и режимы знаков, действующая на молекулярном уровне (то, что Фуко называет обществами, характеризуемыми дисциплинарной властью).[74] Короче, никогда не надо противопоставлять слова и вещи, которые, возможно, им соответствуют, не надо противопоставлять означающие и означаемые, которые, возможно, с ними согласуются, но противопоставлять нужно различные формализации, пребывающие в состоянии нестабильного равновесия или взаимного предположения. «Напрасно мы стараемся говорить о том, что видим, ибо то, что мы видим, никогда не обитает в том, что мы говорим». Это как в школе — не бывает письменного урока, который был бы уроком великого Означающего, избыточного для любых означаемых, а есть две разные формализации, взаимопредполагающие друг друга и конституирующие двойную клешню: формализация выражения на уроке чтения и письма (со своими собственными относительными содержаниями) и формализация содержания на уроке вещей (с их собственными относительными выражениями). Мы никогда не являемся ни означающими, ни означаемыми, мы стратифицированы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато"
Книги похожие на "Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жиль Делез - Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато"
Отзывы читателей о книге "Капитализм и шизофрения. Книга 2. Тысяча плато", комментарии и мнения людей о произведении.