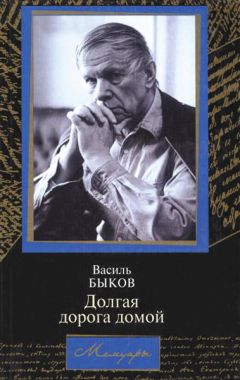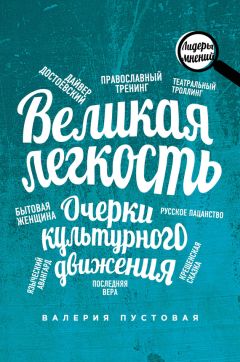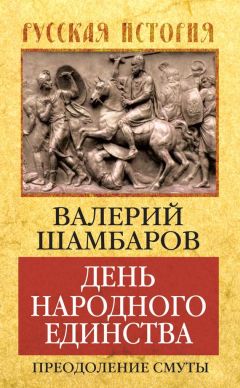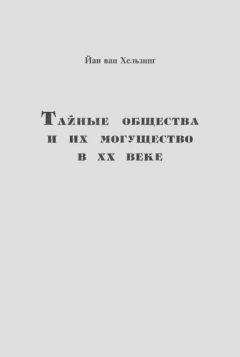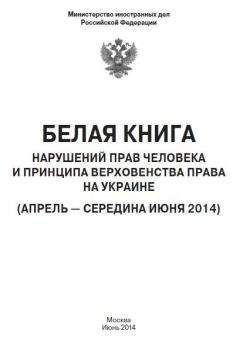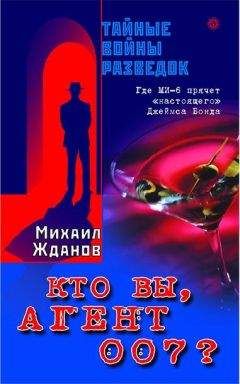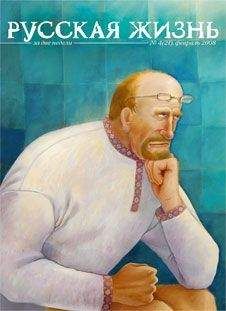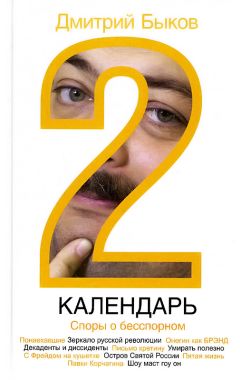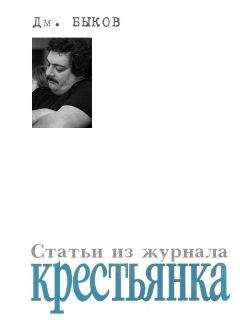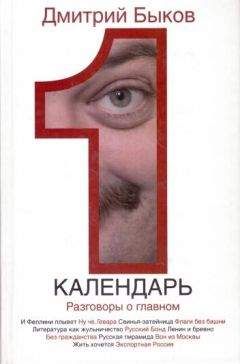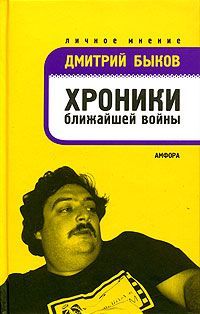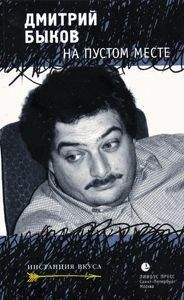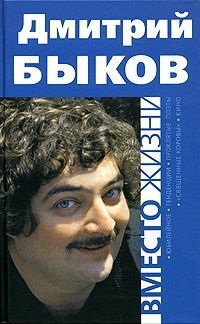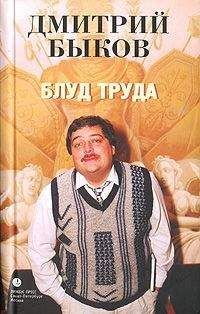Лев Данилкин - Клудж. Книги. Люди. Путешествия

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Клудж. Книги. Люди. Путешествия"
Описание и краткое содержание "Клудж. Книги. Люди. Путешествия" читать бесплатно онлайн.
Нет такой книги и такого писателя, о которых не написал бы Лев Данилкин, ярчайший книжный критик «Афиши» и легенда двухтысячных! Ради этой книги объединились писатели и медийные личности, которые не могли бы объединиться никогда: Джулиан Барнс, Дмитрий Быков, Леонид Парфенов, Мишель Фейбер, Стиг Ларссон, а также… Джеймс Бонд!
А как педагог Иванов поступал со своими сатаненышами?
– У меня была система уродов. Система… чего?
– Урод – это единица измерения тяжести проступка, на основе которой строилась система наказаний. Один матюк – один урод. Потом урод с ручками, урод с ножками, урод с головой и второй урод. За трех уродов – наказание, обычно дежурство. Девочек это не касалось, у девочек были нотации.
Он? Читал нотации?
– Ну.
Например, за что?
– Однажды они в походе без спросу взяли и ушли в магазин в деревне, так я им прочел такую нотацию…
Какую же, Алексей?
– Ну… что с ними случится, когда к ним пристанут местные. Как местные из-за них приходят в лагерь, как наших мальчиков убивают, как я рассказываю об их смерти родителям, как меня сажают в тюрьму и я там сижу.
И как, помогло?
– Они потом весь вечер в палатке плакали. Издержки хорошего воображения.
Иванов и Ко до сих пор выдвигаются в походы не менее трех раз в год – и проблема местного населения по-прежнему стоит остро. Например:
– Чердынь – хорошее место, но ублюдков и там хватает. В частной беседе Иванов нередко пользуется термином «ублюдки» – но в своем путеводителе по Чусовой более сдержан: «Экономические неурядицы в конце XX века обусловили большой отток населения из промышленной сферы. Эта масса людей из-за нищеты не покинула родных мест, но и не влилась в сельское хозяйство по причине его упадка. Образовалась большая прослойка своеобразного сельского люмпен-пролетариата, пробавляющегося подсобным хозяйством, разовыми работами и мизерными социальными пособиями (пенсиями)».
Одного такого люмпена мы видели в деревне Бисер, бывшем центре горнозаводской цивилизации. В руке у деграданта был дорогой мобильный телефон. Я сказал, что если это и деградант, то постиндустриальный, не исключено, что он подсоединен сейчас через Интернет к библиотеке Конгресса. Иванов сказал, что наверняка телефон у него вообще не подключен, и это то же самое, что бусы у дикаря; отобрал в драке у приятеля, а тот ограбил кого-то у магазина. Пожалуй, Иванову виднее; если тема его исторических романов – колонизация земли и индустриализация ее ресурсов, то «современный» Иванов профессионально занимается исследованием деколонизации, деиндустриализации, распада культуры, ослабления пассионарности.
На вопрос, как проехать к Старошайтанке, люмпен сцеживает: «Ну, ебть» – и показывает телефоном направление. Кстати, пока девочки плакали в палатках, мальчики громко матерились под аплодисменты своего преподавателя. Сеанс легальной копролалии назывался «святой минутой» и практиковался ежедневно.
– Они ждали этой минуты целый день, готовились к ней, оттягивали ее. Это было что-то вроде дня Ивана Купалы.
В Старо-, что ли, – уткинске Иванов потащил меня в обход по периметру обледенелой плотины по железным перилам – над дырой, куда низвергается наполовину заледенелый плотинный водопад. Соскользнешь – пиши пропало, и это при том, что а) перила-то шатаются, б) под снегом вообще не видно, куда ступаешь, в) глубина обледенелой шахты – метров пятнадцать. Выбравшись и делая вид, что подобная акробатика для меня абсолютно естественна, я закуриваю, в коленях ощущается странное «штрэк-штрэк».
– Ой, простите, – иезуитски осведомляется Иванов, лазающий что твоя обезьяна, – а я и забыл спросить: вы высоты боитесь?
Чувствуя себя уже героем, простодушно отвечаю:
– Ну, боюсь, как все.
Еще более простодушно Иванов – жеваная «явка» в углу рта, очочки сверк-сверк – сообщает:
– А у меня дети любят повиснуть на руках над шахтой и раскачиваться себе; по полчаса иной раз так развлекаются.
А…
– Да, я был либеральный педагог. Ясно.
Халтурщик Джузи, якобы бывший «у дырника» уже тыщу раз и поэтому отказавшийся переть на Колпаки с их «каменными останцами», встречает нас в закусочной с радушием отменно прогревшегося человека:
– Чего так долго? Никак, мление забрало?
Иванов-старший невозмутимо размешивает в пластиковом стаканчике сахар, вытаскивает оттуда пакетик чая, меланхолично покручивает его на ниточке, будто дохлую крысу, и запускает в направлении Джузи. Мокрый мешочек по навесной гаубичной траектории проносится мимо моего носа и приземляется на брюки хохмача. Джузи отвечает симметричным ударом. Соседи-дальнобойщики – как и Ивановы, сидят одетые, в шапках – недовольно потрескивают пластиковыми баллонами пива «Красный Восток»; из-за стойки слышно пиканье микроволновки. Иванов доедает оливье, придвигает брату тарелку:
– Облизывать будешь?
Педагогическая деятельность Иванова развивалась по четырем направлениям. Во-первых, он воспитывал Джузи – тот в детстве любил с разбегу плюхаться на пружинную пионерлагерную кровать; Лелик подкладывал под кровать жесткие банкетки. Во-вторых, он работал учителем – да, как Служкин, только вел не географию, а историю мировой культуры, и не в девятых классах, а во всех, от первого до одиннадцатого; на жалованье далеко не уедешь, и поэтому ему приходилось брать почти две ставки – 30 часов в неделю – в течение двух лет. В-третьих, когда он на протяжении пяти лет работал проводником в турфирме, довольно часто экскурсии заказывал муниципалитет – для подростков, состоящих на учете в детской комнате милиции. Среди этого контингента через раз попадались чуть ли не серийные убийцы.
Контролировать «упырей» и «деградантов» было крайне утомительно. Неудивительно, что писанное примерно в тот же период «Сердце пармы» – по сути, учебник менеджмента, история про то, как князь Михаил постигает науку управления персоналом и вырабатывает отношения с начальством и союзниками. У себя дома Иванов демонстрировал мне гигантские альбомы допотопного вида с намертво вклеенными походными фотографиями. Малолетние сатаненыши теснятся на каких-то сплавных устройствах, лазают по древним верхотурам, варят на походном костерке харч и нагло лыбятся в объектив, больше напоминая рекламный плакат к фильму «Сволочи», чем благостную картинку из жизни шотландских скаутов.
Наконец – и вот это, по-видимому, один из лучших участков биографии автора, – работа кружководом в закамском Доме пионеров. Его коллектив назывался «Гиперборей»; средний возраст кружковцев – и лучший, по мнению Иванова, – 12 лет. Было ли у него прозвище?
– Осетр. Простите?
– Алексей Викторыч при быстром произнесении превратилось в ОсетрЫч.
Так его называли в глаза; а за глаза – Осетр. У детей тоже были прозвища:
– Это способствовало сближению коллектива, закреплению внутри него особых отношений.
В частности, я сам слышал, как пару раз Иванову звонил на мобильный некто по имени Окаменелость. «Мой воспитанник» – видно, что особые отношения закрепились надолго.
В чем конкретно состояла его воспитательная работа?
– Они ходили на экскурсии и в походы, штудировали краеведческую литературу, из подручных материалов мастерили модели барок и бронированных крейсеров, ландшафтные макеты, макеты шедевров деревянного зодчества, макет каменного храма в Белой Горе (мы там были; это где Джузи спросил, надо ли, ставя свечку, загадывать желание, на что Иванов холодно ответил: «Джузи, это НЕ букмекерская контора»), макеты пушек из музея под открытым небом в Мотовилихе (там Джузи поинтересовался, можно ли поднять руками ядра для пермской царь-пушки. «Джузи, это НЕ боулинг»).
Несколько таких макетов можно увидеть на фотографиях в ивановском путеводителе по Чусовой; непонятно, как 12-летние дети могут склеить и склепать такую сложную конструкцию; зато понятно, каким образом Иванов так свободно ориентируется в своем романе во всем, что касается технической стороны разного рода строительства.
Именно на основе этих экспонатов и был создан тот самый краеведческий музей, о котором часто упоминает экзальтированная пресса, – в одном из помещений Дома пионеров. В последние, впрочем, годы идея Дома пионеров все больше вступала в столкновение с реалиями рыночной экономики. Так, по распоряжению губернатора была внедрена система «сертификатов», которые выдавались каждому школьнику и позволяли бесплатно посещать в год один кружок. Педагоги кровь из носу должны были набрать за год 15 сертификатов; разумеется, тотчас же возникла контрсистема, провоцирующая преподавателей на то, чтобы различными средствами выманивать у детей их сертификаты, – классические «мертвые души». Иванов не любитель раскрывать карты заранее, но, насколько можно понять из разговоров с ним, это один из сюжетов нового романа, который будет, как и «Географ», про современность; еще там будет про сражение бронированных флотилий и бронепоездов в Гражданскую – осталось только придумать к теме ключ, вроде клада Пугачева или Золотой Бабы.
Получил ли он какие-то дивиденды от своих педагогических инвестиций? Невеликие. Дети вырастали и упрямо шли работать в автосервис – либо толочься у алкогольных супермаркетов в ожидании посетителя с мобильными бусами. Из всей описанной в «Географе» «красной профессуры» в люди выбился только прототип Тютина – тот, который все рассказывал: «У нас в деревне один мальчик…»; он поступил в Санкт-Петербургский университет. Читал ли он роман про себя?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Клудж. Книги. Люди. Путешествия"
Книги похожие на "Клудж. Книги. Люди. Путешествия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Данилкин - Клудж. Книги. Люди. Путешествия"
Отзывы читателей о книге "Клудж. Книги. Люди. Путешествия", комментарии и мнения людей о произведении.