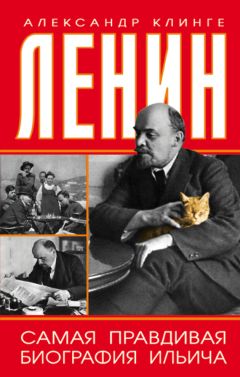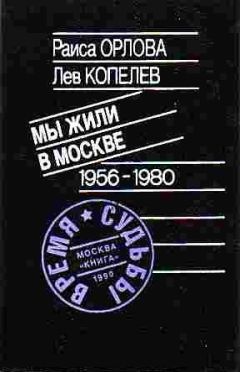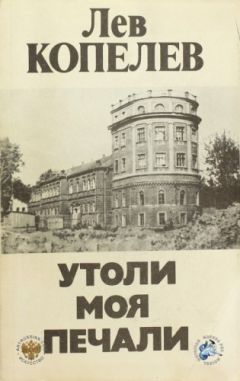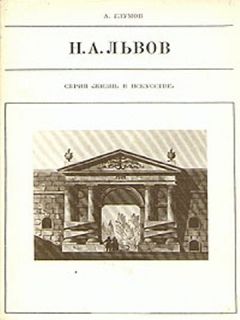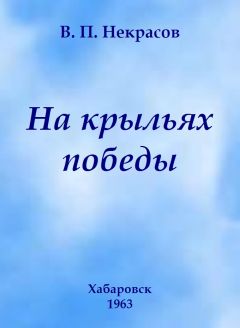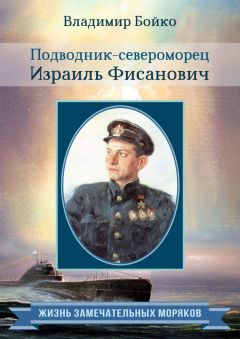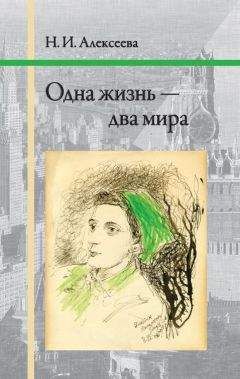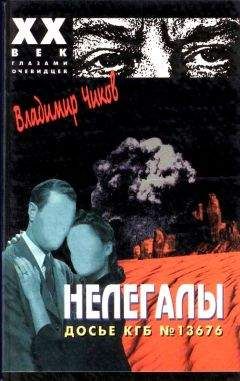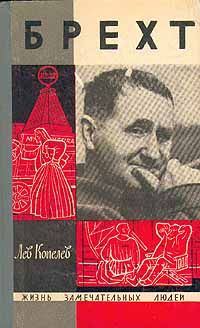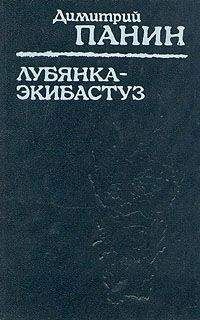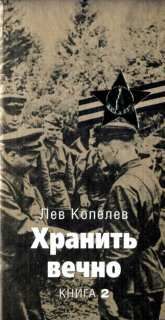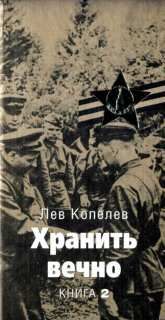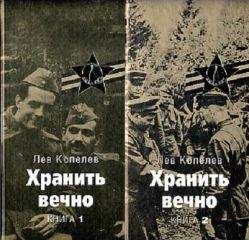Лев Копелев - Хранить вечно
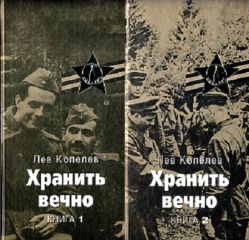
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Хранить вечно"
Описание и краткое содержание "Хранить вечно" читать бесплатно онлайн.
Эта книга патриарха русской культуры XX века — замечательного писателя, общественного деятеля и правозащитника, литературоведа и германиста Льва Копелева (1912–1997). Участник Великой Отечественной войны, он десять лет был «насельником» ГУЛАГа «за пропаганду буржуазного гуманизма» и якобы сочувствие к врагу. Долгое время лучший друг и прототип одного из центральных персонажей романа Солженицына «В круге первом», — с 1980 года, лишенный советского гражданства, Лев Копелев жил в Германии, где и умер. Предлагаемое читателю повествование является частью автобиографической трилогии. Книга «Хранить вечно» впервые издана за рубежом в 1976 и 1978 гг., а затем в СССР в 1990 г.
Мулин олицетворяет очень характерный тип «шибко идейного» деятеля, способного, но не умного, сообразительного, но бездарного и тем более самодовольного и самоуверенного. Такие, как правило, занимают полуруководящие должности, состоят при ком-то. Настоящие начальники «высокой номенклатуры» обычно не так суетливы, хамят более уверенно, а мулины уже только подражают. Этот Мулин к тому же принадлежал к особому, еврейскому подтипу этого типа. Иные мальчики из еврейских семей или даже бывшие вундеркинды с пионерских лет старались особой активностью загладить недостатки социального происхождения и, поработав с годик токарями или слесарями — «поварившись в рабочем котле», вступали на путь общественно-политической карьеры…
Впрочем, бывали среди них и сыновья рабочих и крестьян, скромных интеллигентов или старых большевиков, либо воспитанники детдомов. Но чаще всего это были именно ревностные перебежчики, выходцы из буржуазных, дворянских или полбуржуазных квазиинтеллигентных, консервативно-мещанских семейств.
В двадцатые годы мулины щеголяли клешами, кожаными куртками и жаргоном братишек, издевались над гнилой интеллигенцией, над мещанскими предрассудками единобрачия и чистоплотности, обличали «академизм» студентов, которые учились всерьез, преследовали пижонов, осмелившихся носить галстуки и гладить брюки.
Случалось, что иные из мулиных ошибались и, поспешая за руководящим авторитетом, оказывались среди так называемых троцкистов или бухаринцев. Но, разумеется, только на первых порах; они никогда не оставались с теми, кто проигрывал.
В начале тридцатых годов мулины рядились в юнгштурмовки и гимнастерки, болели душой за пятилетку, охотились на классово чуждых, на вредителей, подкулачников, пределыциков, на троцкистскую контрабанду. Позднее они яростно разоблачали врагов народа и всех, повинных «в связях» или «притуплении бдительности».
Разумеется, бывали жертвы и среди них. Сталинские опричники в 1937–1939 и 1949–1952 годах крушили все вокруг так неистово, что иногда невольно превращались в орудия слепой Фемиды. Тогда и многих мулиных затягивало в кровавые омуты вслед за Ягодой и Ежовым, вслед за позавчерашними палачами, которых шлепали вчерашние, а потом сами подставляли затылки наганам очередной смены. (Некоторых представителей еврейского подвида помяло в сухих погромах последних сталинских лет. Но живучие курилки быстро отряхивались и становились наиболее ретивыми из присяжных лжесвидетелей, убеждая доверчивых иностранцев, что никакого антисемитизма у нас нет, не было и не может быть.) Всякий раз, когда Жданов, Александров, Ильичев и другие учиняли охоту с гончими на «идеологических диверсантов», на «иностранщину», на абстракционизм и ревизионизм и, трубя в газетные рога, вопили: «Ату низкопоклонников, у-лю-лю антипатриотов, хватай буржуазных гуманистов!», то в первых рядах доезжачих и загонщиков, в сворах самых натасканных борзых и лягавых до хрипу заливались и надрывались разномастные мулины. Они выкладывались, не щадя сил, побаиваясь, как бы их самих не задрали взбесившиеся собратья, что, впрочем, бывало. Но иногда они и впрямь искренне верили в необходимость очередной травли. Потому что привыкли всегда безоговорочно доверять всему, исходящему сверху, из директивных инстанций и мазохистски наслаждались поучительными пинками начальственных сапог, отеческими шлепками руководящих нагаек. Потому что для мулиных главное — чтоб было начальство, чтоб были нормы, уставы, догматы. Пусть их формы и содержание меняются. Вчера кричали о сталинских, сегодня говорят о ленинских нормах. Некогда толковали о революционной пролетарской морали, потом о морали народной, истинно русской, позднее о моральном кодексе коммунизма… Все может изменяться.
Важно только, чтобы любые перемены были спущены сверху, стали четкой установкой. А главное, разумеется, чтобы мулиным жилось хорошо, чтоб они пристраивались возможно ближе к управляющим верхам и могли приказывать, наставлять, разоблачать, прорабатывать, песочить, вкладывать ума, подтягивать и т. п., и заслуженно радоваться жизни.
Часть третья.
СЛЕДСТВИЕ ИДЕТ
Глава шестнадцатая.
Вскрываем корни
В Тухельской тюрьме пробыл я не больше двух недель. За это время капитан Пошехонов вызывал меня два раза. Второй раз только чтоб подписать протокол. На вопрос, сколько придется ждать, заметил приветливо, едва ли не подмигнув: «Что ж, может, на первое мая и выпьем вместе».
Вначале я не мог есть баланду, которую давали два раза в день в консервных банках — жидкое пшенное пойло, вонявшее машинным маслом. Ел только хлеб и сахар. Наступило девятое апреля, мой день рождения. Накануне я сказал об этом Борису Петровичу — вот они, 33 года, возраст распятого Христа. Очень тоскливо было.
Утром Петр Викентьевич поднес мне подарок от камеры — фунтик сахара. Одиннадцать порций… Это была первая радость в тюрьме, внезапное ощущение душевной теплоты, исходившей от людей, которым и самим-то невесело, тревожно, голодно, а вот они подумали о другом, чтобы как-то согреть и осветить ему особенно сумрачный день. После завтрака дежурный по тюрьме разрешил мне взять из чемодана табак и консервы — там было несколько банок. Мы устроили общекамерное пиршество…
Но дней через десять я уже с аппетитом уплетал баланду и, чтобы выгребать все зернышки, обзавелся, как все, широкой щепкой, обстругав ее куском стекла.
Прошло недели две. Приказ всем выходить с вещами. Тюрьма двигалась вслед за фронтом «вперед, на запад». Нас сажали в открытый грузовик.
— Раскорячь ноги!.. Садись следующий, жмись к заднему. Раскорячь… следующий, жмись.
По два конвоира с автоматами на бортах, двое с собакой на скамеечках сзади.
— Не разговаривать! Не вертеться, попытка встать считается побег, конвой стреляет без предупреждения!
Ехали долго. Солнце пригревало уже по-настоящему. Мне удавалось, вытягивая голову, увидеть молодую зелень на полях, на придорожных деревьях. Иногда теплый ветер приносил запахи еще сырой, зябкой, но уже нагревающейся земли.
На дороге было шумно, нас то и дело обгоняли машины, целые колонны машин с солдатами, или мы обгоняли скрежещущие, воющие, чадящие танки, артиллерию, топочущие колонны пехоты.
Иногда слышались крики:
— Власовцев везете? Чего их возить… Дайте нам. Шпионы. Гады… вашу мать, вешать всех!..
Первые ощущения от поездки, от солнца, ветра, от дорожного гомона были такими ласковыми, так безобидно радовали, что я пытался не думать о том, что вот этот автомат в руках очень молодого курносого паренька с тремя полосами за ранение, «Красной звездой» и несколькими медалями направлен в меня и что еду вслед за фронтом, затиснутый в одну кучу с власовцами, шпионами, фашистами. Как назло, большинство моих приятелей из 8-й камеры были в другой машине, зато в моей оказалось несколько жандармов.
Проезжали немецкие городки. Конвоиры читали названия: Шнайдемюль… Едем по Померании… И любопытно и горько. Наконец въехал в немецкие края. Но как? Стараюсь глядеть по сторонам. Конвоиры, разомлев от солнца, уже не придираются. К тому же слышали, что кто-то из нашей камеры назвал меня «майор»… Спросили, откуда?… За что? В плену не был… с начальством поругался?… Наши хиви тоже разговорились с ними, выпросили махорки…
В немецких городках все меньше разрушений, видим гражданских мужчин и женщин, спокойно идущих по улицам. Несколько раз проехали мимо бронзовых или чугунных памятников — некоторые еще стояли, другие валялись, беспомощно топорщась копытами и хвостами, все они были похожи друг на друга (так же, как на них всех похож Юрий Долгорукий, воздвигнутый на Советской площади в Москве). Иногда удавалось заметить: каска и густые усы — Бисмарк, каска и бакенбарды — Вильгельм Первый… У одного такого темно-бронзового конника в Вильгельмсбурге или Фридрихсбурге сворачиваем с шоссе, едем узкой дорогой-аллеей, вкатываемся в густой лесок, высокая ограда, кирпично-чугунная, двор, усадьба, парк… Здесь выгружаемся.
Длинное двухэтажное здание, белое с темной металлической крышей, с башенками и пристройками. Над входом разбитый мраморный щит — герб.
Нас загоняют в большое полуподвальное помещение. Садись!.. Садимся на пол. Начинается перекличка. У стола тюремные чины и стопа бумаг.
Всем распоряжается начальник тюрьмы, старший лейтенант Н. Впервые наблюдаю то, что потом повторится множество десятков раз. Выкликают фамилию; отвечая, нужно назвать имя, отчество, статью, срок или «следственный».
Начальник тюрьмы слушает перекличку, сидя верхом на стуле с папиросой в зубах. При каждом ответе коротко разъясняет смысл статьи, то ли обучает своих подчиненных, то ли сам упражняется для «повышения квалификации».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Хранить вечно"
Книги похожие на "Хранить вечно" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Копелев - Хранить вечно"
Отзывы читателей о книге "Хранить вечно", комментарии и мнения людей о произведении.