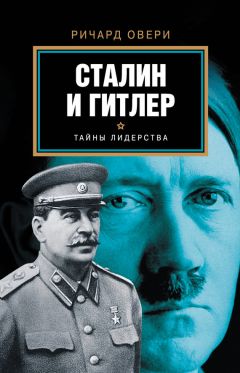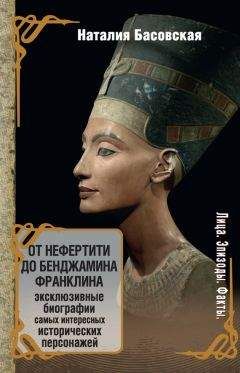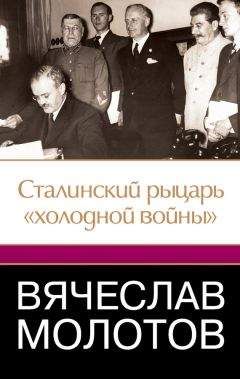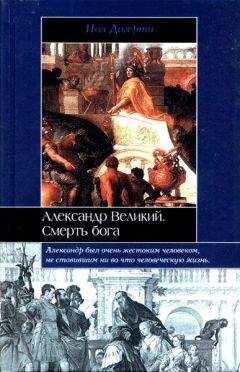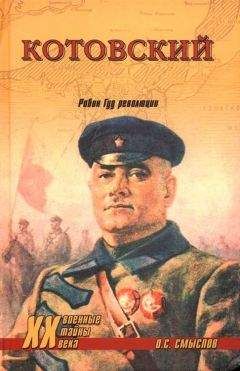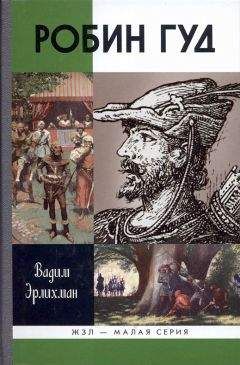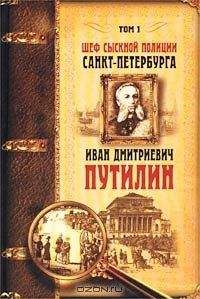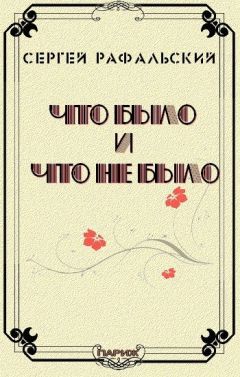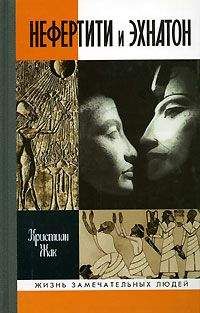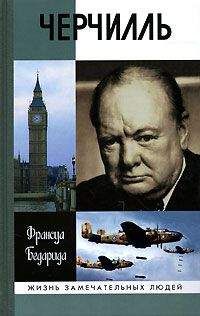Робин Коллингвуд - Идея истории
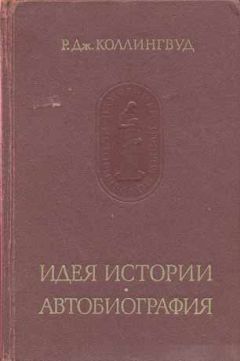
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Идея истории"
Описание и краткое содержание "Идея истории" читать бесплатно онлайн.
Как продукты воображения, работы историка и романиста нисколько не отличаются. В чём они различаются, так это в том, что картина, созданная историком, имеет в виду быть истинной.
(Р. Дж. Коллингвуд)
Существующая ныне история зародилась почти четыре тысячи лет назад в Западной Азии и Европе. Как это произошло? Каковы стадии формирования того, что мы называем историей? В чем суть исторического познания, чему оно служит? На эти и другие вопросы предлагает свои ответы крупнейший британский философ, историк и археолог Робин Джордж Коллингвуд (1889—1943) в знаменитом исследовании «Идея истории» (The Idea of History).
Коллингвуд обосновывает свою философскую позицию тем, что, в отличие от естествознания, описывающего в форме законов природы внешнюю сторону событий, историк всегда имеет дело с человеческим действием, для адекватного понимания которого необходимо понять мысль исторического деятеля, совершившего данное действие. «Исторический процесс сам по себе есть процесс мысли, и он существует лишь в той мере, в какой сознание, участвующее в нём, осознаёт себя его частью». Содержание I—IV-й частей работы посвящено историографии философского осмысления истории. Причём, помимо классических трудов историков и философов прошлого, автор подробно разбирает в IV-й части взгляды на философию истории современных ему мыслителей Англии, Германии, Франции и Италии. В V-й части — «Эпилегомены» — он предлагает собственное исследование проблем исторической науки (роли воображения и доказательства, предмета истории, истории и свободы, применимости понятия прогресса к истории).
Согласно концепции Коллингвуда, опиравшегося на идеи Гегеля, истина не открывается сразу и целиком, а вырабатывается постепенно, созревает во времени и развивается, так что противоположность истины и заблуждения становится относительной. Новое воззрение не отбрасывает старое, как негодный хлам, а сохраняет в старом все жизнеспособное, продолжая тем самым его бытие в ином контексте и в изменившихся условиях. То, что отживает и отбрасывается в ходе исторического развития, составляет заблуждение прошлого, а то, что сохраняется в настоящем, образует его (прошлого) истину. Но и сегодняшняя истина подвластна общему закону развития, ей тоже суждено претерпеть в будущем беспощадную ревизию, многое утратить и возродиться в сильно изменённом, чтоб не сказать неузнаваемом, виде. Философия призвана резюмировать ход исторического процесса, систематизировать и объединять ранее обнаружившиеся точки зрения во все более богатую и гармоническую картину мира. Специфика истории по Коллингвуду заключается в парадоксальном слиянии свойств искусства и науки, образующем «нечто третье» — историческое сознание как особую «самодовлеющую, самоопределющуюся и самообосновывающую форму мысли».
IX. Фундамент будущего
Мое решение посвятить оставшуюся часть жизни этой задаче было не совсем делом свободного выбора. К 1919 г. я понял, что мне ничего другого не остается. В то время существовала особая причина (преходящего характера, как хотелось бы надеяться), почему человек, считавший себя способным предпринять работу такого рода, обязан был стремиться к ней. Не буду отрицать, что эта причина сильно повлияла на мое решение.
Только что кончилась война, в которой уничтожение жизней, разрушение материальных ценностей и разочарование в надеждах на создание мирного и хорошо организованного международного сообщества превзошли все, что было известно ранее. Еще хуже было то, что интенсивность битвы, казалось, подорвала, словно взрывчаткой, моральную энергию всех ее участников. И война (я пишу это как человек, который в последний ее период был занят подготовкой мирных переговоров), беспрецедентная по жестокости, завершилась мирным урегулированием, столь же беспрецедентным по глупости, когда государственная мудрость, даже чисто эгоистическая, отступила перед разгулом самых низменных и идиотских страстей. Еще до войны нас предупреждал Норман Анджелл{34}, что в войне не будет победителей в том смысле, что плодов победы не будет пожинать никто. Теперь же мы увидели, что победителей не может быть и в другом смысле: ни одна из участвовавших в ней сторон не вышла из нее морально обогащенной; к концу войны не оказалось правительств, которые не превратились бы в сборище идиотов, способных только на то, чтобы выбросить как ненужный хлам все, завоеванное им их солдатами.
Эта война была беспрецедентным триумфом естествознания. Бэкон обещал, что знание станет силой, и силой оно действительно стало — силой разрушать тела и души людей более эффективно, чем это достигалось прежними средствами. Этот триумф проложил путь и к другим триумфам: к улучшению транспорта, санитарных условий жизни, к усовершенствованию хирургии, медицины, психиатрии, коммерции и индустрии, но прежде всего — к усовершенствованию подготовки к следующей войне.
Но в одном отношении война была и беспрецедентным позором для человеческого разума. Чем бы ни считать ее, плодом преступного сговора шайки немецких милитаристов, как думали одни, или шайки английских коммерческих заправил, как думали другие, ясно было одно: никто, кроме самой ничтожной кучки людей в воюющих лагерях, не хотел ее. Она возникла потому, что ситуация вышла из-под контроля. А пока она продолжалась, люди все более и более теряли контроль над событиями. Когда был подписан мирный договор, ситуация стала еще более неуправляемой; сражение кончилось только потому, что одна из борющихся сторон была разгромлена, а не потому, что ситуация снова вернулась под контроль человека.
Этот контраст между успехами современного европейского духа в деле контроля над почти любой ситуацией, элементами которой являются физические тела, а действующими силами — физические силы, и его неспособностью контролировать ситуации, элементами которых оказываются человеческие существа, а действующими силами — психические силы, оставил неизгладимый след в памяти всех, кто как-то почувствовал его. Я достаточно хорошо знал историю, чтобы оценить силу этого контраста. Я знал, что очевидная бездарность Версальского договора превосходит все другие договоры точно так же, как по своему техническому превосходству вооружение армий двадцатого века превосходит вооружение всех прежних армий. Казалось, что сила и способность человека управлять природой росли pari passu[128], no мере того как уменьшалась его сила управлять ходом человеческих дел. Это, смею думать, преувеличение. Но фактом остается то, что гигантское усиление с 1600 г. контроля человека над природой не сопровождалось соответствующим усилением его контроля над людскими делами.
Столь же бесспорным фактом остается и то, что дурные последствия слабого контроля над человеческой ситуацией стали сейчас более серьезными, чем когда-либо раньше, находясь в прямой зависимости от тех новых сил, которые с божественным безразличием вложили естественные науки в руки злых и добрых, глупых и мудрых людей. По мере того как естественные науки идут от триумфа к триумфу, любая ошибка в управлении людскими делами не только будет приводить ко все более и более обширным разрушениям, но и ее последствия для всего хорошего и разумного в цивилизованном мире будут становиться все более уничтожающими, ибо зло всегда опередит добро в использовании машины разрушения, а дураки всегда окажутся здесь впереди умных. Мне казалось, что я вижу, как царствование естественных наук в кратчайший срок может превратить Европу в пустыню, населенную йеху{35}.
Был только один способ отвратить эту опасность, и только он, если бы все это случилось, мог исправить положение. Способность европейца управлять силами природы являлась плодом трех столетий научных исследований в тех направлениях, которые были намечены в начале семнадцатого века. Расширение научного кругозора и ускорение научного прогресса во времена Галилея привели нас от водяных и ветряных мельниц средних веков к почти невероятной силе и тонкости современной машины. Однако с себе подобными люди обращались точно так же, как в средние века с механизмами. Краснобаи, преисполненные добрых намерений, толковали о необходимости замены человеческих сердец. Но беда, очевидно, таилась в голове. Требовалась не большая добрая воля и людская солидарность, но большее понимание людских дел и большее знание того, как справляться с ними.
В этом месте моих рассуждений, я чувствую, естествоиспытатель может взять слово, чтобы восстановить свой падающий престиж. «Да, — заметит он, — все, что Вы сказали, верно. Мы действительно, если хотим спасти цивилизацию, должны хорошо разбираться в людских делах. А это значит — хорошо разбираться в человеческом уме и происходящих в нем процессах, знать различные формы этих процессов у разных типов человеческих существ. Подобно всякому подлинному знанию, оно должно быть научным знанием. Одним словом, оно должно быть психологией. Психология — наука, которая, несмотря на свою молодость, показала несостоятельность претензий таких старых псевдонаук, как логика, этика, политическая история и т. д., и в то же время сумела извлечь все ценное из их наследия. Она и есть то знание, которого ищет мир».
Подобное заявление ни на минуту не ввело бы меня в заблуждение, и этим я обязан моим ранним занятиям теологией. Как и все те, кто изучал ее тогда, я прочел «Разнообразие форм религиозного опыта» Уильяма Джемса{36} и кучу других книг, где религия рассматривалась с психологической точки зрения. Если книга Джемса и шокировала меня, то не потому, что в ней были описаны какие-то факты, о которых я бы предпочел не слышать, — они в общем были забавны. И не потому, что я считал работу Джемса неумелой. По-моему, он выполнил ее очень хорошо. Мой шок был вызван тем, что вся книга являла собой образец мошенничества. Она обещала пролить свет на определенные вопросы и ничего не проясняла. И причина этого — примененный в ней метод. Предмет исследования в книге остался невыясненным не из-за того, что она была продуктом плохой психологии, а как раз потому, что она была результатом хорошей психологии. И в своей работе «Религия и философия» я нападал не только на Уильяма Джемса, но на любую психологическую трактовку религии, отраженную в формуле: «Дух, рассматриваемый таким образом, перестает быть духом вообще».
Книга Джемса вывела меня на верный путь. Мне стало ясно, что любая попытка подвести этику под психологию (а попытки такого рода делались достаточно часто) либо сделать то же самое с политикой неизбежно приведет к неудаче. Я прекрасно знал, что мольба: «Не критикуйте эту науку, она еще в пеленках», — основывается на лжи. Психология весьма далека от того, чтобы считаться молодой наукой. Как термин «психология», так и она сама существовали с шестнадцатого века. Она не только давно признанная наука, но и наука, которая в течение столетий была респектабельной и даже вполне уживчивой. Она была создана (и это явствует уже из ее названия, как легко может заметить каждый, достаточно хорошо знающий греческий язык) для изучения того, что не является ни умом в традиционном смысле слова (сознание, рассудок, воля), ни телом, но φυχη[129], или же такими психическими функциями, как ощущения и влечения. Она шествовала, опираясь, с одной стороны, на физиологию, а с другой стороны, на науки об уме в собственном смысле слова — на логику и этику, науки о разуме и воле. И она не обнаруживала никакого желания вторгнуться на соседние территории до тех пор, пока в начале девятнадцатого столетия не возобладала догма, что разум и воля представляют собой только сгустки чувств и влечений. Если дело обстоит таким образом, то тогда логику и этику можно устранить, а их функции передать психологии. Ибо «духа» как такового не существует, а то, что им называлось, на самом деле есть только «φυχη»{37}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Идея истории"
Книги похожие на "Идея истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Робин Коллингвуд - Идея истории"
Отзывы читателей о книге "Идея истории", комментарии и мнения людей о произведении.