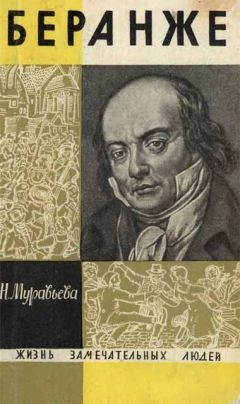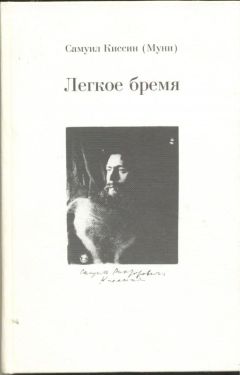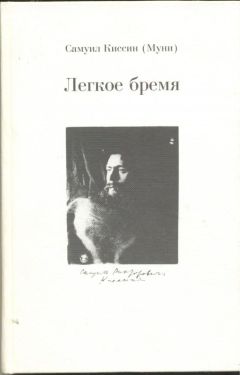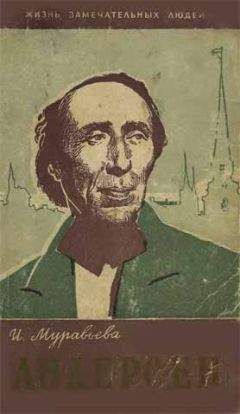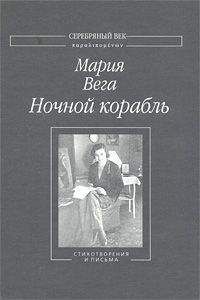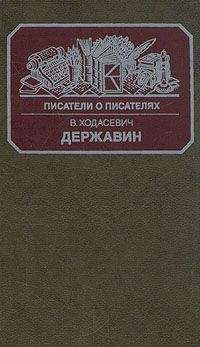Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича
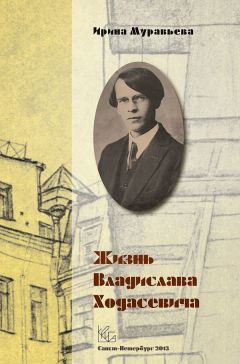
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь Владислава Ходасевича"
Описание и краткое содержание "Жизнь Владислава Ходасевича" читать бесплатно онлайн.
И. А. Муравьева обратилась к личности Владислава Ходасевича, поэта, резко выламывающегося из своей эпохи. Автор не просто перечисляет жизненные вехи Ходасевича, а пытается показать, как сформировался такой желчно-ироничный поэт, «всезнающий, как змея», видящий в отчетливом, суровом, самосознающем слове последнее прибежище «разъедающей тело» души среди российской «гробовой тьмы» и «европейской ночи». И как этот скептик и циник мог настолько преображаться в своих великолепных книгах о Державине и Пушкине.
Под маской помнить не о чем. Тонкие подошвы туфель сами собой несут на пустой и блестящий пол, обещая встречи. О том, что они непременно будут, поют скрипки. Разве трудно добиться, чтоб их звуки стали таинственны? Для этого достаточно спрятать музыкантов за занавески».
Ходасевич же пишет рассказ о танцовщице, которая сошла с афиши к возлюбленному, а потом вернулась назад, к изображенному там же, рядом с ней, наглому апашу…
Вдвоем Грифцов и Ходасевич бродят по запутанным переулкам и прекрасным площадям Венеции, как по оставленному дому, вдыхают запах моря и гнили и все больше влюбляются в этот город. «И к кому же, если не к Венеции, привязаться, как к живому человеку, странному, страстно наказывающему и уже навсегда отравляющему…» — напишет Борис Грифцов.
Венеция словно создана для того, чтобы уйти от своих горестей, избавиться от еще ноющей любви, забыться, как писал Муратов, над водами каналов. И становится не так слышна неожиданно оборванная, неутоленная любовь, словно прикасаешься к вечности и все земное уже не так важно. Здесь хорошо одному. Или со случайным приятелем. А в общем-то и он не нужен.
«Город разлук» — назвал свой очерк о Венеции Ходасевич:
«Нигде так легко не расстаешься с надеждами и людьми, как в Венеции. Там одиночество не только наименее тягостно, но наиболее желанно. И вовсе не для того, чтобы сосредоточиться, уйти в себя, но напротив: чтобы забыть себя, потерять былое, сделаться одним из тех, кто часами сидит на набережной, глядя в туманную даль лагуны <…>
Венеция — город разлук. <…>
Но трудно уехать отсюда домой, в Россию. Здесь научаешься любить камни, черную воду каналов, соленые испарения моря, рыжие занавески на окнах да людей, проходящих, как тени.
Но горько и скучно помыслить, что дома ждут начатые дела, волнующие известия, близкие люди, что там снова воскреснут былые привязанности. Здесь хочется не любить и не быть любимым. Венеция — город разлук.
Для того, кто задумал пропасть навсегда без вести, — путь лежит через Венецию: здесь скоро разлюбишь былое, от всего оторвешься без боли и легко пойдешь куда глаза глядят. <…>
Легкий и нежный холод здесь вливается в сердце. И дуновения его кажутся счастьем нетленным, вечным. <…>
…учишься великому искусству: разлюблять».
Было ли написанное отчасти позой или Ходасевичу и впрямь стало легче, любовь уходила?..
А Женя шлет уже из России письма спокойные, почти родственные, с заботой о состоянии кошелька Владислава, о деньгах, которые так и не смогла ему прислать в Венецию. Он в ответ называет ее «милый», просит особенно не беспокоиться о нем. Она зовет его сразу же, как вернется в Москву, приехать к ней в Звенигород. Все как будто по-прежнему неплохо, но он не поедет в Звенигород… Все кончится на этом, яркий и недолговечный роман уже завершен, хотя оба этого еще, по-видимому, и не знают…
Несмотря ни на что, Италия оставила глубокий и счастливый след в душе Ходасевича и в его творчестве. Через два года, в 1913-м, написано стихотворение, которое дало название разделу в сборнике — «Звезда над пальмой»:
Красный Марс восходит над агавой,
Но прекрасней светят нам они —
Генуи, в былые дни лукавой,
Мирные, торговые огни.
Меркнут гор прибрежные отроги,
Пахнет пылью, морем и вином.
Запоздалый ослик на дороге
Торопливо плещет бубенцом…
Не в такой ли час, когда ночные
Небеса синели надо всем,
На таком же ослике Мария
Покидала тесный Вифлеем?
Топотали частые копыта,
Отставал Иосиф, весь в пыли…
Что еврейке бедной до Египта,
До чужих овец, чужой земли?
Плачет мать. Дитя под черной тальмой
Сонными губами ищет грудь,
А вдали, вдали звезда над пальмой
Беглецам указывает путь.
Вселенская умиротворенность разлита в строках этого стихотворения — звезда над пальмой светит всем. Итальянские небеса — залог мира в душе, уверенности, что все идет своим чередом, все идет как должно, а тальма на Богородице — одежда другой эпохи — словно сближает времена, хотя самой Марии плохо и тревожно, но она спасает сына, спасает, еще не зная, что ему предстоит. Но все идет как должно, и даже в этой картинке бегства — умиротворенность.
О Жене Ходасевич вспоминает в 1912 году уже несколько отстраненно, с прежним, чуть приглушенным восхищением, но словно с обратной связью: не он зависит от нее, а она от него, от его лиры:
Благодари богов, царевна,
За ясность неба, зелень вод,
За то, что солнце ежедневно
Свой совершает оборот;
За то, что тонким изумрудом
Звезда скатилась в камыши,
За то, что нет конца причудам
Твоей изменчивой души;
За то, что ты, царевна, в мире
Как роза дикая цветешь
И лишь в моей, быть может, лире
Свой краткий срок переживешь.
В первом издании третья строчка последнего четверостишия звучала и вовсе по-пушкински: «И лишь в моей заветной лире». В дальнейшем поэт, по-видимому, счел это слишком прямой и нескромной реминисценцией… Но Женя — все равно царевна… И как идет к ней это сравнение — «как роза дикая»…
Глава 6
«Счастливый домик»
Анна Чулкова-Ходасевич. Около 1907 года
Осень 1911 года напомнила Ходасевичу о том, что ощущение счастья и душевного покоя недолговечны. Она принесла серьезное горе, что казалось таким невозможным, даже странным после синих итальянских небес. В октябре погибла в результате несчастного случая мать Владислава, Софья Яковлевна: понесла, испугавшись чего-то на московской улице, лошадь, пролетка опрокинулась, Софья Яковлевна выпала из нее и ударилась головой о чугунный фонарный столб. Заметка в «Московской газете» от 23 сентября сообщала о похоронах Софии Яковлевны. В том же номере, по странному совпадению, было напечатано эссе Ходасевича о Венеции. Отношения с родителями уже давно не были близкими, и тем сильнее терзало чувство вины. Но даже просто пожаловаться на трудности жизни, хоть в стихах, как год назад матери («Мама! хоть ты мне откликнись и выслушай: больно…»), теперь стало некому. Вспоминалось написанное ее рукой последнее, ласковое письмо к нему: «Желаем тебе, ненаглядный ты мой, счастливого путешествия и целуем тебя крепко-крепко». (Слово «ненаглядный», нынче редкое в нашей речи, встречается потом в письмах второй жены Ходасевича.) Именно в это время Ходасевич чуть было не покончил с собой, о чем уже говорилось в главе «Муни»…
А вскоре, 24 ноября, умер и отец, не выдержав потрясения и одиночества, — обострилась грудная жаба.
Сближение с Анной Ивановной (или, как ее называли друзья, Нюрой) Чулковой (1887–1964), сестрой литератора Георгия Чулкова, было в этот период его жизни, по-видимому, необходимым, неизбежным, тем прибежищем, без которого не обойтись. Анна помогла ему выйти из тяжелого душевного кризиса. Они были хорошо знакомы и раньше, встречаясь в семье Брюсовых. Нюра была гражданской, то есть невенчанной, женой Александра Брюсова, брата Валерия, с ними жил и ее сын от первого брака Гарик Гренцион. Отношения Владислава с Нюрой были дружески-кокетливыми. «Только ради Бога не подумай, что я в тебя влюблена», — писала она Ходасевичу в 1909 году. В 1911 году ее отношения с Александром разладились, зашли в тупик, их союз распался… После этого она еще жила какое-то время вместе с приятелем Ходасевича Борисом Диатроптовым.
Ходасевичу так нужны были сейчас сочувствие, теплота — то, чем Нюра обладала, по-видимому, с избытком; оба они потянулись друг к другу.
Этот жизненный поворот отразило стихотворение 1911 года «Бегство»:
Да, я бежал, как трус, к порогу Хлои стройной,
Внимая брань друзей и персов дикий вой,
И все-таки горжусь: я, воин недостойный,
Всех превзошел завидной быстротой.
Счастливец! я сложил у двери потаенной
Доспехи тяжкие: копье, и щит, и меч.
У ложа сонного, разнеженный, влюбленный,
Хламиду грубую бросаю с узких плеч.
Вот счастье: пить вино с подругой темноокой
И ночью, пробудясь, увидеть над собой
Глаза звериные с туманной поволокой,
Ревнивый слышать зов: ты мой? ужели мой?
И целый день потом с улыбкой простодушной
За Хлоей маленькой бродить по площадям,
Внимая шепоту: ты милый, ты послушный,
Приди еще — я все тебе отдам!
«Потаенная дверь» «счастливого домика», в которую вошел герой стихотворения, знаменовала собой для Ходасевича бегство с поля боя трудной жизни, трудной любви — с аллюзией на бегство Горация Флакка с настоящего поля боя, на его знаменитую оду. Но герой его «все-таки гордился» своим бегством. Имя женщины, живущей за «потаенной дверью», по традиции русской поэзии конца XVIII — начала XIX века заменено на Хлою…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь Владислава Ходасевича"
Книги похожие на "Жизнь Владислава Ходасевича" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ирина Муравьева - Жизнь Владислава Ходасевича"
Отзывы читателей о книге "Жизнь Владислава Ходасевича", комментарии и мнения людей о произведении.