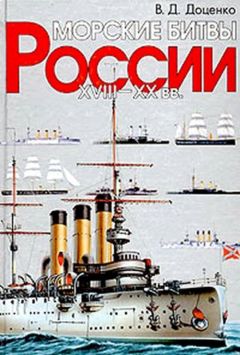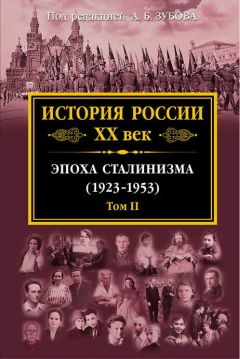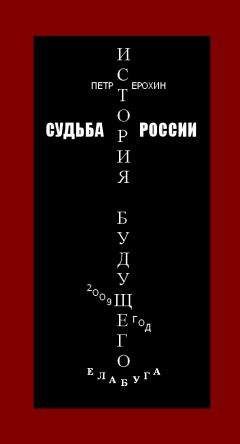Виталий Поликарпов - История нравов России

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "История нравов России"
Описание и краткое содержание "История нравов России" читать бесплатно онлайн.
Исследователи (В. В.Лапин, Е. В.Анисимов и др.) вполне справедливо усматривают в гвардии XVIII столетия козырную карту тех, кто задумывал и совершал дворцовые перевороты (5, 25, 145, 18). Не секрет для всех тех, кто знает эту эпоху, что именно гвардия решала судьбу престола. Ведь гвардия представляет собой дворянство, служившее в привилегированных полках и как правящий слой получившее возможность возводить на престол то или иное лицо. Ее роль обусловлена системой власти, сложившейся при Петре Великом, который в своем «Уставе о наследии престола» закрепил право назначать своим наследником кого ему заблагорассудится. Вот почему пришедшая к власти Анна Иоан–новна постаралась выключить из гвардии дворян, заменяя их рекрутами из податных сословий.
Отечественный исследователь Е. Анисимов приводит данные анализа социального состава гвардейцев, совершивших переворот в пользу Елизаветы: 17,5 % дворян, 82,5 % — выходцы из разночинцев и крестьян. Однако, по его мнению, существенным является то, что «гвардейцы были носителями типично преторианской психологии», выражавшей «идеи, присущие дворянской массе в целом» (5, 26). Ведь они служили при дворе и видели всю его жизнь изнутри: весь быт и нравы самодержцев, фаворитов, вельмож проходили перед глазами стоящих на карауле солдат, о чем они делились после дежурства в гвардейских казармах. Многолетняя служба при дворе сформировала у них чувство причастности к придворной жизни, причем они не поддавались пышности и блеску двора, подобно провинциалам, ибо знали все подробности его жизни. Больше них знали только лакеи, однако не они совершали дворцовые перевороты. Именно гвардия, в силу того, что она представляла собою прекрасно обученное воинское соединение со сложившимися традициями и корпоративным духом, и могла совершать такого рода акции.
У гвардейцев не существовало чувства благоговения перед придворной жизнью, более того, иногда монархи унижали и оскорбляли, а то и ломали их судьбу своим поведением. В связи с этим нельзя не вспомнить анекдотический случай с грустным исходом для П. И.Панина. Он стоял на часах и почувствовал позыв на зевоту в тот самый момент, когда проходила Анна Иоанновна. Он «успел пересилить себя. Тем не менее судорожное движение челюстей было замечено императрицей, отнесшей это действие часового к намерению сделать гримасу, и за эту небывалую вину несчастный юноша» был послан рядовым солдатом в пехотный полк, направлявшийся на войну с турками (201, 565). Такого рода случаи тоже определяли симпатии или антипатии гвардейцев к монарху или его возможному преемнику.
История возведения на престол Елизаветы и низвержения Петра III — это история доминирования сильного патриотического чувства в психологии гвардии, когда на первое место выдвинулся долг перед Отечеством, любовь к нему и презрение к тем, кто унижал достоинство России и русских. В этих случаях их вели не стремление получить награды или гордое сознание своих возможностей, а национально–патриотические идеи, ненависть к «немцам».
«Золотой век» Екатерины II к концу его великолепия привел к изменению нравов гвардии и армейского офицерства. Современники отмечают целый ряд пороков, присущих армии: произвол командиров, вытекающие отсюда казнокрадство, жестокое, превышающее требование закона, обращение с нижними чинами, притеснение обывателей, несоблюдение строевых уставов; по отзыву графа Ланжерона, гвардия же — «позор и бич русской армии» (300 т. XVII).
Для гвардейских офицеров екатерининской эпохи характерна необычайная роскошь: каждый из них должен был иметь шесть или четверик лошадей, новомодную карету, множество мундиров (только один мундир стоил 120 рублей, а это огромная по тем временам сумма), несколько модных фраков, большое количество жилетов, шелковых чулок, башмаков, шляп, много слуг, егеря или гусара, одетого в золотые или серебрянные одежды. Роскошь вела к неоплатным долгам, к разорению, к злоупотреблениям и казнок–радствам. «Всем известно, — рассказывает А. Болотов, — что во время обладавшего всем князя Потемкина за несколько лет был у нас один рекрутский набор с женами рекрутскими, и что весь он был как им, так креатурами и любимцами его разворован» (300, XVIII). Вообще, рекрутов разворовывали офицеры и обращали их в своих крепостных. По словам Безбородко, «растасканных» различными способами из полков солдат в 1795 году насчитывалось до 50 тысяч человек и это при 400-тысячной армии! О злоупотреблениях в армии и гвардии живописует А. Болотов, говоря о борьбе с ними императора Павла I.
«Монархиня у нас была милостивая и к дворянству благорасположенная, — говорит А. Болотов, — а господа гвардейские подполковники и майоры делали, что хотели; но не только они, но даже самые гвардейские секретари были превеликие люди и жаловали кого хотели за деньги. Словом, гвардейская служба составляла сущую кукольную комедию. В таковом–то положении застал гвардию государь… он прежде всего начал… пробуждением всех гвардейцев из прежнего их дрема–ния и сна, так и неги и лени. Все должны были совсем позабыть прежний свой и избалованный совсем образ жизни, но приучить себя вставать очень рано, быть до света еще в мундирах… наравне с солдатами быть ежедневно в строю» (28, 65). Известно, что при Екатерине II не столько служили, сколько «записывались» в службу. Унтер–офицеров и сержантов «набилось в гвардию бесчисленное почти множество» — всего их насчитывалось до 20 тысяч человек. Интересно то, и это характеризует нравы офицерской корпорации екатерининского времени, что в гвардию записывали и грудных младенцев, и совсем еще не родившихся, получая на них паспорта с незаполненными именами. Таким образом, были, по замечанию А. Болотова, гвардии унтер–офицеры «имярек», в утробах матерей и неизвестного еще пола!.. Большая же часть взрослых и не думала служить: они проживали по своим домам и усадьбам и «либо мотали, вертопрашили, буянили, либо с собаками по полям только рыскали», однако «чрез происки и деньги» добивались чинов поручика и капитана. Каждый год они выходили из гвардии и армейские полки переполнялись этими тунеядцами и недорослями, преграждающими повышение по службе настоящим офицерам и получающими еще жалование.
И далее А. Болотов подчеркивает, что император Павел I навел решительный порядок — по его повелению к нему на смотр обязаны были явиться эти числящиеся и находящиеся в отпусках тунеядцы; все дороги Российской империи были переполнены кибитками скачущих гвардейцев и матерей, везущих на смотр к государю своих малюток. Везде скачка и гоньба, повсюду резко возросли цены на проезд к столице и повсюду слышны были стенания. Так, завершает рассказ А. Болотов, «наказано было наше дворянство за бессовестное и бесстыдное употребление во зло милости прежней милосердной монархини… и за обманы их непростительные» (28, 65–66).
Следует отметить, что Павел I в искоренении пороков русской армии вместе с водой выплеснул и ребенка, ибо наряду с распущенностью и злоупотреблениями под топор его указов попали и культивируемые Румянцевым и Суворовым лучшие традиции русской армии эпохи Екатерины II (185, 32–35, 41–42 т. 13 Ч. 2). В армии насаждалась дисциплина в капральском понимании этого слова, поощрялась плац–парадность — понятно, что военно–балетные па, великолепно выглядевшие на плац–параде, были бесполезны при отражении атак яростно визжащих турецких янычар, при штурме крепостей, в схватках с решительной французской пехотой. Но император преследовал и далекоидущую цель, а именно: он осознавал опасность усиления военной корпорации, способной выступать в качестве противовеса самодержавию с его централизаторскими тенденциями. Еще не изгладились из памяти дворцовые перевороты середины XVIII века, когда офицеры и солдаты гвардии составляли единое целое. Поэтому в павловское время рядовой состав гвардейских полков стали формировать уже не из дворян, что серьезно уменьшило политическое значение гвардии как дворянской организации (145, 57). Начала усиливаться бюрократизация армии, и в связи с этим процветают и новые нравы, т. е. начинает происходить бюрократизация нравов, их огрубление, достигшее своей вершины в царствование Николая I не без помощи небезызвестного Аракчеева.
В неписаный кодекс поведения русского офицерства входит и дуэль, которая была запрещенным занятием. И здесь Павел I, как замечает в своих «Записках» генерал граф Л. Л.Беннигсен, проявил несправедливость и самодурство. Двое молодых людей, один военный (князь Б. Святополк — Четвертинский), другой штатский (А. И.Рибопьер) подрались на дуэли из–за одной молодой дамы, пользовавшейся благосклонностью императора. Штатский, который был единственным сыном своей матери, оказался ранен в руку. Врачи перевязали ему руку и предписали лежать ему в постели, чтобы избежать смертельного кровоизлияния из–за истощения. Можно себе представить, как велико было горе матери; и здесь Павел I, ревновавший к молодому человеку, узнал о его состоянии и от радости обласкал молодого офицера; самого же штатского, его мать и сестер сослал (229, 31). Это тоже способствовало в конечном счете убийству Павла I в Михайловском замке. Необходимо отметить, что о дуэлях идет речь в «Войне и мире» Л. Толстого, в «Повестях покойного Ивана Петровича Белкина» и «Евгении Онегине» А. Пушкина, в повести «Поединок» А. И.Куприна. И хотя дуэль считалась поединком чести, неким рыцарским отношением офицера и дворянина к жизни, в принципе, она была убийством. Достаточно вспомнить, что именно на дуэли погибли А. Пушкин и М. Лермонтов, не говоря уже о других.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История нравов России"
Книги похожие на "История нравов России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Виталий Поликарпов - История нравов России"
Отзывы читателей о книге "История нравов России", комментарии и мнения людей о произведении.