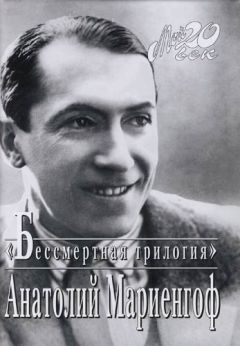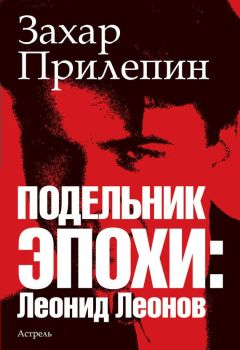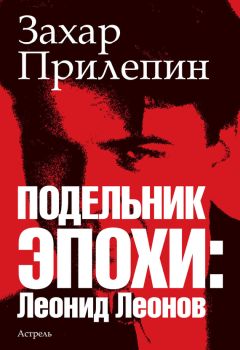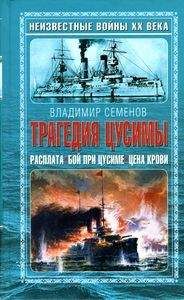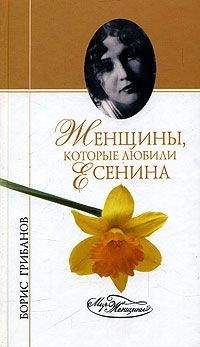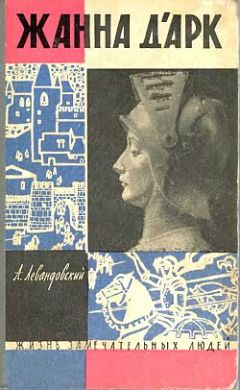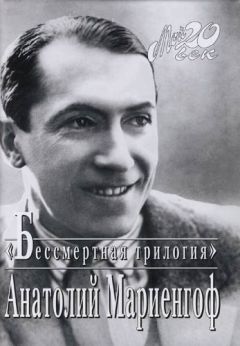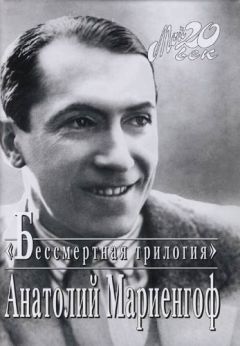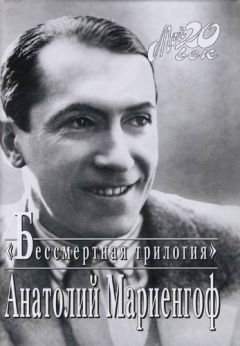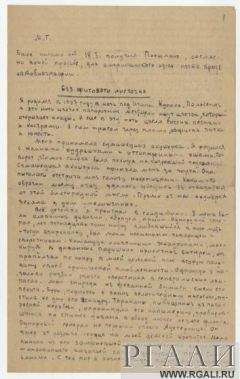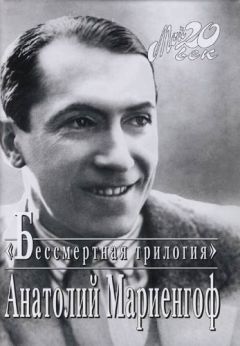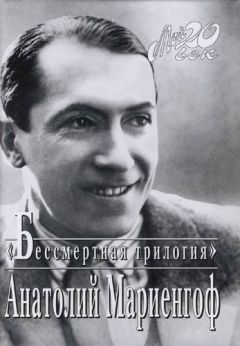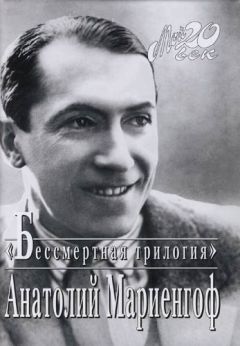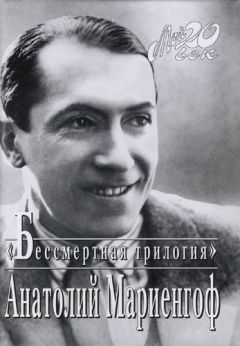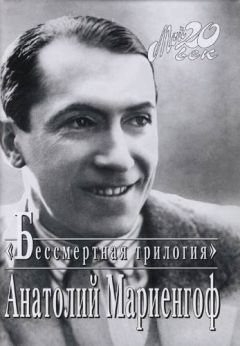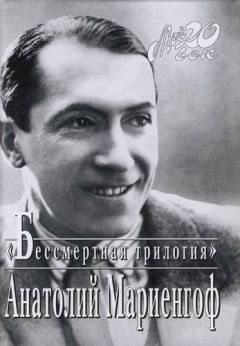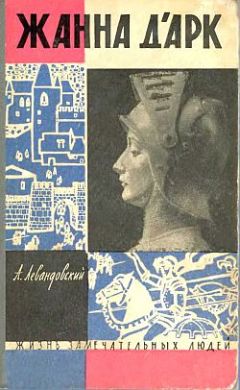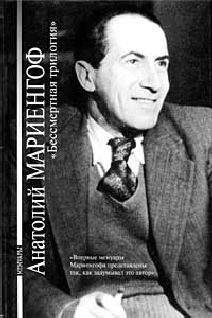Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской
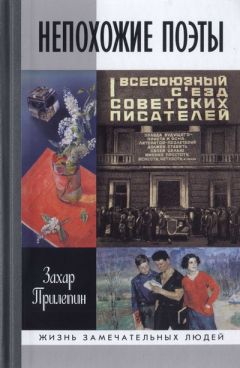
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Описание и краткое содержание "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать бесплатно онлайн.
Трех героев этой книги, казалось бы, объединяет только одно: в своё время они были известными советскими поэтами. Всё остальное — происхождение, творческая манера, судьба — разное. Анатолий Мариенгоф (1897–1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907–1938) был вырван из литературной жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901–1957) после громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем автор книги, известный писатель Захар Прилепин, находит в биографиях столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были свидетелями великих и трагических событий русской истории XX века — не прятались, не отворачивались от них и сумели отразить их в своём творчестве. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как современно и даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов в наше время.
знак информационной продукции 16 +
ОГРОМНЫЕ СОВРЕМЕННИКИ
О стихах Мариенгофа Есенин не оставил ни одного серьёзного отзыва (он вообще о сверстниках почти не отзывался, только о прозаиках — с ними не было состязания), но иметь дело и водить дружбу с малоинтересным поэтом Есенин точно не стал бы.
Поэзия Мариенгофа может нравиться или не нравиться, но цельное восприятие его творчества утверждает в простом мнении: Мариенгоф — самобытен.
Его дар был безусловно меньшим, чем гений Есенина и гений Маяковского. Мало того, очень скоро поэтические возможности Мариенгофа достигли своего предела, однако на тот момент — 1918 год, 1919-й — к очень многим вещам он приходил сам по себе, своими тропами, порой опережая вышеназванных.
Есенин и Маяковский революцию приняли как антагонисты.
Маяковский воспел атакующий класс, Есенин — Новый Спас, который едет на кобыле. Мариенгоф парадоксально сблизил их, совместив черты мировосприятия обоих в своих стихах.
Мариенгоф пишет хроники и марши революций (жму руку, Маяковский!), и он же вещает, что родился Саваоф новый (здравствуйте, Есенин!).
Вольно варьируя исторические события, можно предположить возможность дружбы Мариенгофа и Маяковского.
К моменту знакомства с Есениным голос Маяковского был для Мариенгофа более притягателен: Владимира Владимировича даже отец Анатолия Борисовича почитал — бывало, декламировал пензенским друзьям «Облако в штанах».
Поэтому и результат иногда случался соответствующий.
Ночь, как слеза, вытекла из огромного глаза
И на крыши сползла по ресницам.
Встала печаль, как Лазарь,
И побежала на улицы рыдать и виниться.
Кидалась на шеи — и все шарахались
И кричали: безумная!
И в барабанные перепонки воплями страха
Били, как в звенящие бубны.
Это стихотворение Мариенгофа 1917 года. Улицы, упоминаемые в четвёртой строке, уже проваливались у Маяковского «как нос сифилитика» в 1914-м, клубились, «визжа и ржа», в 1916-м, вообще — выбежать на улицы — одна из примет любовной истерики Маяковского:
Выбегу,
тело в улицу брошу я,
дикий,
обезумлюсь,
отчаяньем иссечась…
Хотя именно эти стихи Мариенгоф как раз не читал, потому что они не были опубликованы на тот момент.
Но, преломляясь как в пародийном сне, вышеприведённое стихотворение Мариенгофа отражает классическое «Скрипка и немножко нервно» Маяковского:
Скрипка издергалась, упрашивая,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо…»
…………………
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
я встал…
………………………
бросился на деревянную шею…
В обоих стихотворениях сначала рыдают, потом кричат о безумии, кидаются на шеи, стучат в барабаны (вариант — бубны).
Схожее чувство возникает и при чтении ранней поэмы Мариенгофа «Магдалина»:
Кричи, Магдалина!
……………………………
Молчишь?.. Молчишь?! Я выскребу слова с языка.
А руки,
Руки белее выжатого из сосцов луны молока.
Ощущение такое, что мелодию эту уже слышал. Вот она:
Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
……………………
Мария, хочешь такого?
………………
…не хочешь?
Не хочешь!
Забавно, что в той же «Магдалине» (вернее, в первой её редакции) Мариенгоф дистанцируется от тех, в подражании кому его могли обвинить:
Ха-х!
Смерть футуризму,
Прокувыркавшемуся без толку
И не понявшему тебя, Магдалина!
Мариенгоф использует свободную строфу Маяковского, «переповторяет Маяковских “проституток” и т. д.», — ставит на вид Шершеневич в рецензии на поэму — и одновременно хоронит футуризм. Что ж, смело.
Однако это всего лишь лёгкий крен, интересными поисками отмеченный более, чем случайными попаданиями след в след предшественникам.
За пару лет Мариенгоф вырабатывает свой уникальный стиль, и с какого-то момента голос его аналогов не имеет:
Какой земли, какой страны я чадо?
Какого племени мятежный сын?
Пусть солнце выплеснет
Багряный керосин,
Пусть обмотает радугами плеснь, —
Не встанет прошлое над чадом.
Запамятовал плоть, не знаю крови русло,
Где колыбель
И чьё носило чрево.
На Русь, лежащую огромной глыбой,
Как листья упадут слова
С чужого дерева.
В тяжёлые зрачки, как в кувшины,
Я зачерпнул и каторгу и стужу…
Есенин, на всех углах заявлявший о своей неприязни к Маяковскому, уже тогда воспринимал его как весомого соперника и подсознательно желал с ним если не сойтись, то о чём-то важном договориться.
Мариенгоф, как ни странно, мог в чём-то удовлетворить подсознательную тягу Есенина к Маяковскому. Сарказм прекрасного горлопана? У Мариенгофа было этого предостаточно. Эпатировать громко и весело? Мариенгоф умел. С Клюевым или Орешиным против Маяка не попрёшь: засмеют, скажут «дер-ревня!». А с такими товарищами, как Анатолий и Вадим, — вполне можно, они даже и ростом не меньше.
Потом, Есенину хотелось быть вождём — вождями уже называли руководителей революции, слово запомнилось — и он был уверен, что новую компанию возглавить сможет, а вот быть вождём крестьянских поэтов Сергея Клычкова или Пимена Карпова, к тому же далеко не юных, — это ни в какие ворота.
Но, думается, когда восприимчивый к чужим удачам Есенин прочитал у Мариенгофа:
Удаль? — Удаль. — Да ещё забубённая,
Да ещё соколиная, а не воронья!
Бубенцы, колокольчики, бубенчите ж, червонные!
Эй вы, дьяволы!.. Кони! Кони! —
он оценил хватку и твёрдо решил: на трон русской поэзии будем взбираться вместе. Толя подсадит.
Они оба торили дорогу, им обоим был нужен мудрый и верный собрат, хочется сказать — сокамерник, «осужденный на каторге чувств вертеть жернова поэм…».
А про коней в душу запало. И не только про коней.
В мае 1919-го Мариенгоф пишет поэму «Слепые ноги». Спустя три месяца Есенин — «Кобыльи корабли».
Что зрачков устремлённых тазы?!
(Слёзной ряби не видеть пристань) —
Если надо учить азы
Самых первых звериных истин, —
это голос Мариенгофа. Вот голос Есенина:
Звери, звери, придите ко мне
В чашки рук моих злобу выплакать!
Тазы, чашки, звери — всё начинает путаться, имущество у поэтов понемногу становится общим. Мариенгоф — далее:
Жилистые улиц шеи
Жолтые руки обвили закатов,
А безумные, как глаза Ницше,
Говорили, что надо идти назад.
А те, кто безумней вдвое
(Безумней психиатрической лечебницы),
Приветствовали волчий вой
И воздвигали гробницы.
О «сумасшедших ближних» пишет и Есенин.
В ужасе от происходящего Мариенгоф вопрошает:
Мне над кем же…
Рассыпать горстями душу?
Есенин тоже не знает:
…кого же, кого же петь
В этом бешеном зареве трупов? —
то есть среди гробниц Мариенгофа.
Не только общая тональность поэмы, но и некоторые столь любимые Есениным «корявые» слова запали ему в душу при чтении Мариенгофа. Скажем, слово «пуп»:
Вдавленный пуп крестя,
Нищие ждут лепты, —
возникает в «Кобыльих кораблях»:
Посмотрите: у женщин третий
Вылупляется глаз из пупа.
Многие образы Мариенгофа будто отражаются в стихах Есенина.
Мариенгоф:
Зелёных облаков стоячие пруды
И в них с луны опавший жолтый лист…
Есенин:
Скоро белое дерево сронит
Головы моей жёлтый лист.
«Белое дерево» Есенина — это луна Мариенгофа, роняющая этот самый лист.
(Отдельно стоит напомнить строчку в «Пугачёве» Есенина: «…медвежонок / Смотрит на луну, как на вьющийся в ветре лист».)
Мариенгоф извлекает глагол из предложения:
В раскрытую рану какую
Неверия трепещущие персты?
Есенин, тоже опуская парный существительному «черпак» глагол, пишет:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Книги похожие на "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Захар Прилепин - Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской"
Отзывы читателей о книге "Непохожие поэты. Трагедии и судьбы большевистской эпохи: Анатолий Мариенгоф. Борис Корнилов. Владимир Луговской", комментарии и мнения людей о произведении.