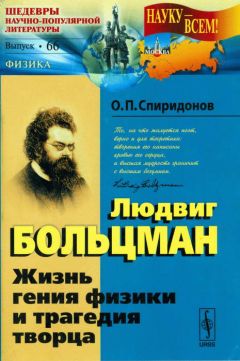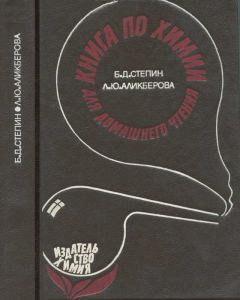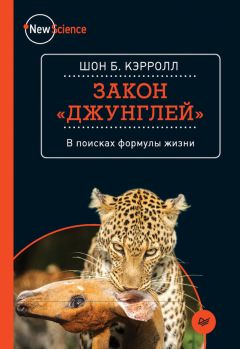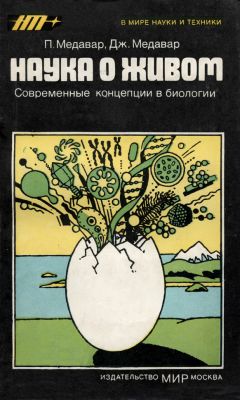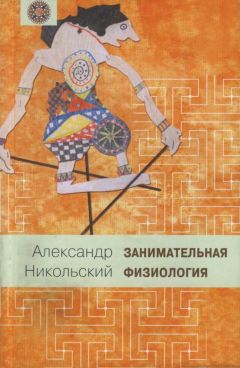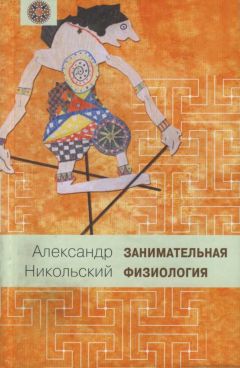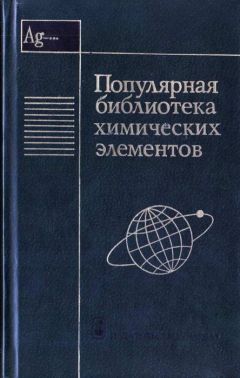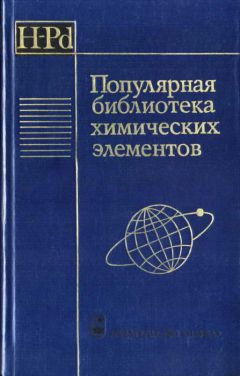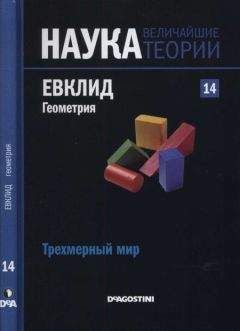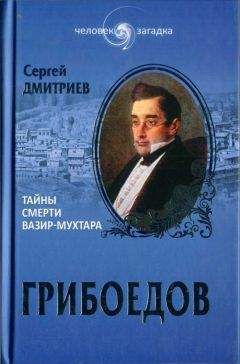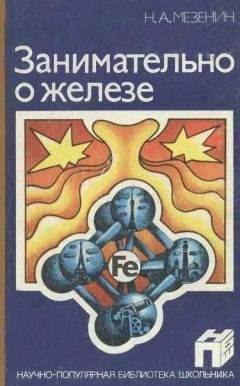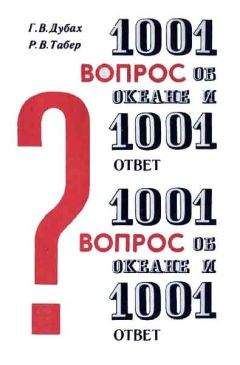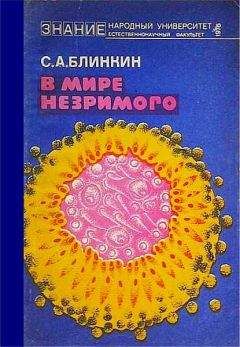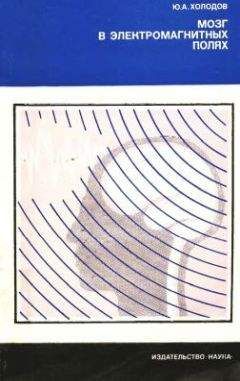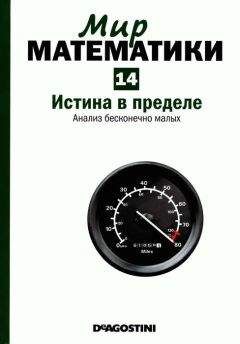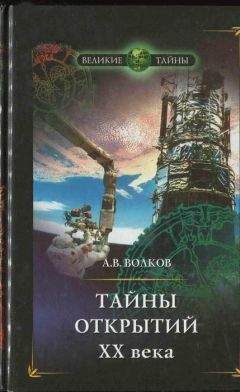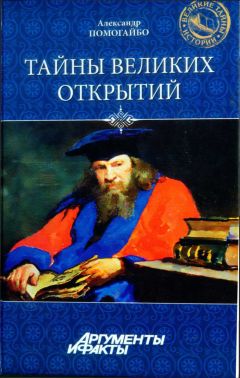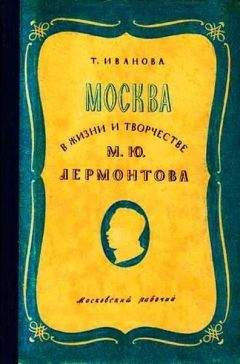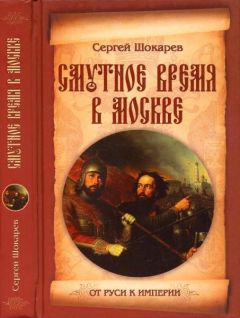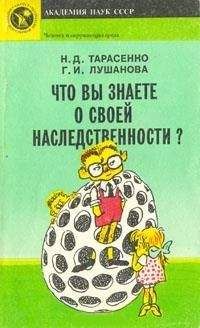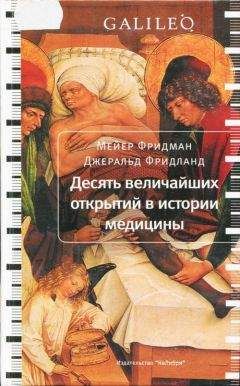Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "О сколько нам открытий чудных.."
Описание и краткое содержание "О сколько нам открытий чудных.." читать бесплатно онлайн.
В книге представлены некоторые доклады, зачитанные автором или предназначавшиеся для зачитывания на заседаниях Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых. Доклады посвящены сооткрытию с создателем произведений искусства их художественного смысла, т. е. синтезирующему анализу элементов этих произведений, в пределе сходящемуся к единственной идее каждого из произведений в их целом.
Рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей.
Как это оспорил Соколянский? — Он довольно логично уязвил Самарина, заметившего, что Пушкин, мол, <<не случайно>> [2, 11] и в 1814‑м и в 1836‑м годах применяет относительно Мильтона одинаковые отрицательные слова. Только в 1814‑м это сказано, — заметил Соколянский, — о «стихах бессмысленных», а в 1836‑м словами: «своенравный и смелый даже до бессмыслия» — <<сказано о Мильтоне–человеке, и слово «бессмыслие» употреблено в том высоком значении, в каком слово «безумие» употребляется, например, применительно к сервантесовскому Дон Кихоту>> [2, 12]. В этой связи Соколянскому <<трудно принять>> [2, 12] концепцию Самарина о «Бове».
Но пусть даже Самарин ошибся (а это, строго говоря, еще проверять надо) в этой частности, касающейся даже и не «Бовы», а неоконченной статьи «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»”. Ну разве можно на таком узком основании трудно принимать всю концепцию о «Бове»?! Такой явный перегиб опять убеждает меня в моей правоте о, так сказать, серьезном ерничестве раннего Пушкина, в том числе и в «Бове» [1, 74].
Есть у Соколянского и передергивание: относительно слов самого Пушкина. Читаем:
Часто, часто я беседовал
С болтуном страны Эллинския [Гомером]
И не смел осиплым голосом
С Шапеленом и с Рифматовым
Воспевать героев севера. —
смеющими, я понимаю, своими осиплыми голосами их воспевать, как болтун Гомер воспевал героев юга. Так разве Шапелен и Рифматов в одном ряду с Гомером? — По–моему, нет. Здесь два ряда. Гомер, потом иные и Мильтон — один ряд. А Шапелен, Рифматов и «автор» времен до написания «Бовы» — другой ряд.
Соколянский же на основании того, что от всех их «автор» «Бовы» отталкивается, считает их одним рядом. Мне ясно: ему же нужно доказать, что Пушкин тогда был птенец и нечего, мол, его, раннего, принимать всерьез.
Может, Соколянский и неосознанно передернул. Над ним довлела общепризнанная концепция поэтической и просто человеческой неразвитости юного Пушкина. Но раз такая концепция толкает на передергивания — это еще раз меня, над которым эта концепция не довлела (я исходил только и только из художественного смысла стихов [1, 3]), убеждает в моей правоте.
Есть и еще один тенденциозный намек у Соколянского. Необоснованно отвергая <<обоснованность критического запала юного лицеиста>> [2, 11] против Мильтона, и чувствуя, что обоснование–то у юного гения было: следовать за едким Вольтером периода «Орлеанской девственницы» (а Вольтер — величина очень немалая и эта его поэма — тоже), Соколянский дает сноску в примечания: <<Заметим, что позднее Пушкин в чем–то пересмотрел свое отношение к вольтеровской поэме>> [2, 17]. Понимай, неразвит был — ценил, а развился — пересмотрел; и с Мильтоном, мол, то же самое.
Что ж. Пушкин действительно много раз круто менялся и можно, вообще говоря, ждать поэтому изменчивости его оценок. Но здесь–то, в первых строках «Бовы», юнец явно нарывался на упреки в адрес «автора». Зачем? Не для того ли, чтоб дать понять, что автор без кавычек не так прост.
И чтоб это понять теперь, когда давно известен принцип Выготского: что столкновение противочувствий (здесь: великий — унижен шалопаем) ведет к катарсису, — теперь можно было б легко почувствовать катарсис (здесь: шалопай–то не прост, раз знает, кого унижать нельзя). Но надо иметь Выготского на вооружении. А еще прежде — надо иметь желание видеть проблему в открытии художественного смысла. Надо, чтоб настало новое литературоведение. — А оно все не настает.
Другая статья о произведении того же, первого, периода творчества Пушкина — «Фольклоризм и/или всемирная отзывчивость. (О лицейском стихотворении А. С. Пушкина «Козак»)». Соколянский здесь отмечает всемирную отзывчивость, которая — по Достоевскому — у Пушкина хоть и расцвела только в послеонегинский период, но развилась же — по Соколянскому — из <<тех начал, которые были заложены в даровании>> [2, 53]. А следовательно, с юности проявились в виде <<какого–то особого чутья к культуре (в том числе и народной) других… этносов>> [2, 53], чему свидетельство «Козак». С другой стороны, Соколянский не хочет соглашаться с — он так ее называет — идеологемой 1970‑х годов, <<что стихотворение «Козак» является наиболее ранним проявлением пушкинского фольклоризма>> [2, 47]. А разве может быть одновременно и отсутствие фольклоризма, и наличие уже в юности какого–то особого чутья к народной культуре других этносов? — Не понятно. Видно, и самому Соколянскому не понятно. Это отразилось и в названии статьи. Он применил для нее несуществующий в русском языке знак препинания — дробь: «Фольклоризм и–дробь–или всемирная отзывчивость». Впрочем, это не интересно.
Зато интересно применить его метания для себя.
Напомню читавшим у меня о «Казаке» и в двух словах введу в курс нечитавших.
Я надеюсь, мне удалось показать, что Пушкин — с одной стороны — под маской автора «Казака» насмехается там над прагматизмом на ниве любви у персонажей украинских песен [1, 70], которые ему, Пушкину, привелось слышать от соученика, Илличевского. А с другой стороны — этот «автор» по воле Пушкина же так огрубляет в своем отличающемся от фольклора произведении скоротечную любовь с первого взгляда [1, 71], что от сшибки этих двух насмешек возникает образ мудрого и холодного исследователя циников, человеческой природы [1, 71].
Так вот, когда Соколянский попрекает Сумцова, что тот <<пытался — без достаточных, думается, оснований — установить связь между «Козаком» и такими украинскими песнями, как «З‑за гори, гори» и «Ой, вiдтiль гора»>> [2, 48] — то я рад. Пушкин же и по–моему от них отталкивался как от, мол, недопустимо прагматичных для любовной тематики. То же относится и к Охрименко, которого Соколянский упрекает за категоричность параллелей между «Казаком» и песней «В славнiм городi Переяславi».
Я так же радуюсь следующему обоснованному рассуждению Соколянского: <<Частые упоминания исследователей и комментаторов юношеских стихов Пушкина о песне «Ïхав козак за Дунай»… связаны с ее популярностью во всей России в начале девятнадцатого века>> [2, 48], и что непосредственным стимулом для написания стихотворения «Казак» эта песня быть не могла [2, 48]. Было бы действительно странно, если б песня, связанная с патриотическими настроениями времени войн с Наполеоном послужила стимулом к вышучиванию — как это выведено у меня [1, 70] — любовного фольклора.
У Соколянского я прочел и ссылку на интерес украинца Илличевского к «Козаку», что хорошо для моего предположения, что подначки украинским любовным народным песням особенно хорошо чувствовались людьми, знакомыми с этими песнями.
В результате я доволен тем, что мне удалось осилить книгу Соколянского. Человек с более широкими интересами и знаниями, чем у меня, найдет в ней больше пищи для ума, чем это представил я, и им я ее рекомендую.
Литература
1. Воложин С. И. Извините, пушкиноведы и пушкинолюбы… Одесса, 1999.
2. Соколянский М. Г. И несть ему числа. (Статьи о Пушкине). Одесса, 1999.
Написано в январе 2000 г.
Зачитано в феврале 2000 г.
Попробовать примирить с Пушкиным украинских националистов
Попытка 1‑я: понять значит простить
Зачем Пушкин в таком негативном свете выставил Мазепу в Полтаве? — Затем что в то время, в 1828 году, ему казалось, что он нашел причину поражений современных ему антифеодальных дворянских революций: в Португалии, в Испании, в Италии, в османской Молдавии и в России (декабризм). Революции эти были безнародные (дворяне, помня недавний разгул Великой Французской революции, боялись разбудить революционную стихию крестьянской и солдатской массы), и народ не поддержал выступления элиты. Та желала конституции и свободы; была мечта: элите — освободиться от монархического, крестьянам — от помещичьего самоуправства. Но, как оказалось, история не делается прекраснодушными мечтателями. Да они не так уж и прекраснодушны, если задуматься. Если докопаться до корня антифеодальных выступлений — они движимы, в конечном счете, эгоизмом. Красиво это называется свобода личности. Поэтически — свобода страстей: любви, ненависти… И эстетическим воплощением этого был тогда романтизм. И вот это все потерпело поражение. И Пушкин счел, что такова была воля Истории. И перешел к историзму. А ранний этап историзма, — как писал Лотман, опираясь на духовный опыт всей Европы, — неизбежно включал в себя примирение с действительностью, представление об исторической оправданности и неизбежности объективно сложившегося порядка.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О сколько нам открытий чудных.."
Книги похожие на "О сколько нам открытий чудных.." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных.."
Отзывы читателей о книге "О сколько нам открытий чудных..", комментарии и мнения людей о произведении.