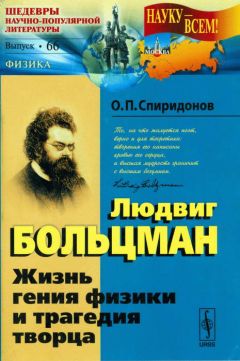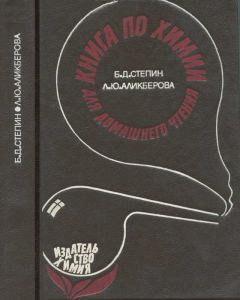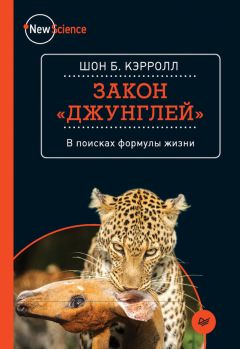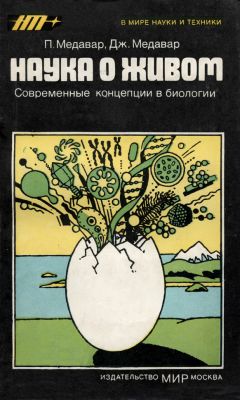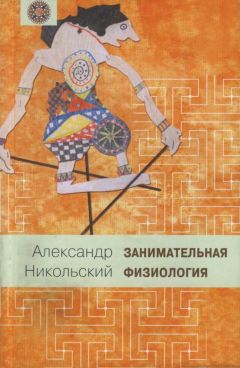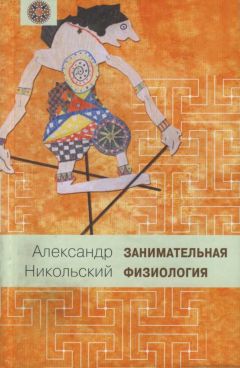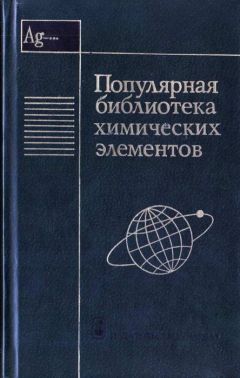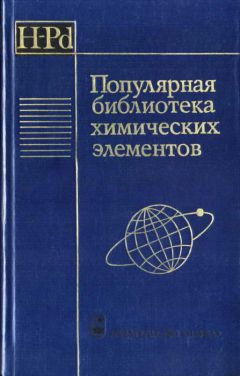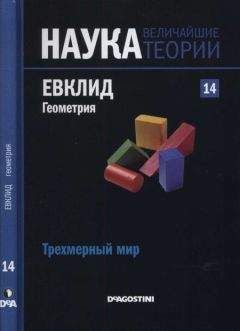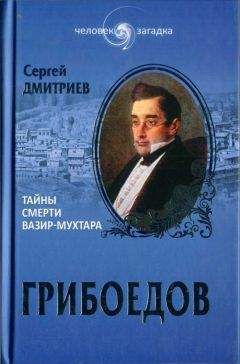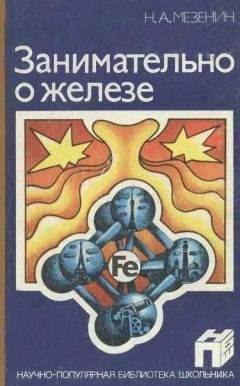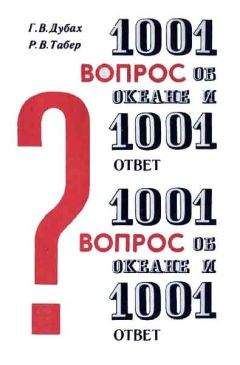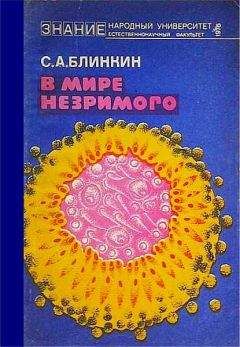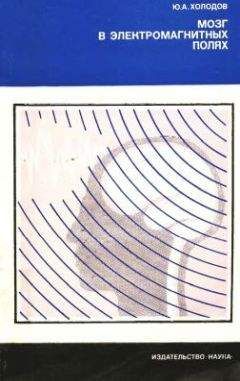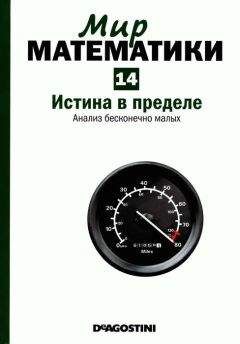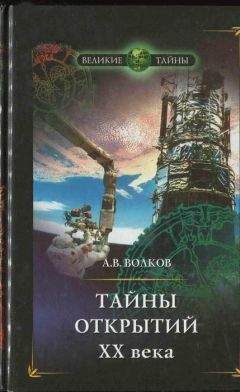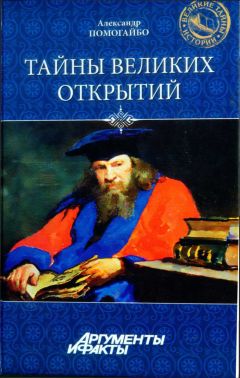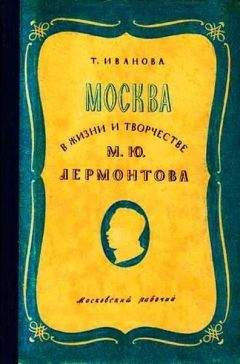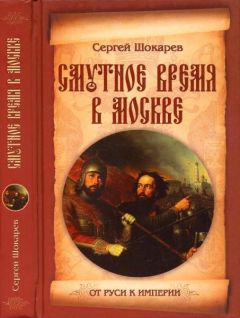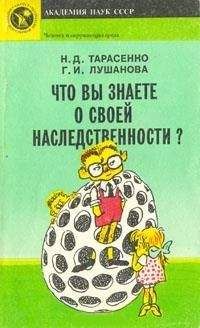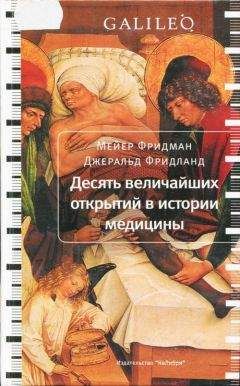Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных..
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "О сколько нам открытий чудных.."
Описание и краткое содержание "О сколько нам открытий чудных.." читать бесплатно онлайн.
В книге представлены некоторые доклады, зачитанные автором или предназначавшиеся для зачитывания на заседаниях Пушкинской комиссии при Одесском Доме ученых. Доклады посвящены сооткрытию с создателем произведений искусства их художественного смысла, т. е. синтезирующему анализу элементов этих произведений, в пределе сходящемуся к единственной идее каждого из произведений в их целом.
Рассчитана на специалистов, а также на широкий круг читателей.
Замечает же Лотман еще и низкого уровня дифференциальные признаки фонем в первых трех разбираемых стихах, в том, что было (в городе), по сравнению с тем, что стало (в степи). Это уже, так сказать, тончайший фонологический разбор:
<<Если … обратить внимание на то, что сочетание «о — у» активизирует признак открытости [ «о» более открыто, чем «у»], «и — у» лабиализованности [округления губ], «е — у» — ряда [переднего — непереднего] и т. д., то станет очевидно, что в каждом из этих «у» актуализированы различные стороны…>> [2, 248].
Так поскольку все это есть явно подсознательный — для автора — уровень, то именно на нем происходят и другие (увидите какие) перетасовки составляющих. Ведь <<одновременное соединение… явлений в любой схеме… и приведение их в систему [иных] причинно–следственных отношений… составляют основу интуиции>> [1, 179].
И вот во всей этой тонкости соотношений фонем: в столкновении неявно однообразной (а значит, позитивной) повторяемости «у» с явной однообразной (а значит, негативной) повторяемостью финальных «е», в столкновении привычной (то есть негативной) повторяемости «у» с непривычным (т. е. позитивным) ее исчезновением, в столкновении тончайших (а значит, снова позитивных) переливов звучания гласных вокруг «у» с обрывом этих переливов (т. е. снова с негативом), — в общем, в чередующемся столкновении то позитивной, то негативной оценки одних и тех же звуков есть еще одна комбинаторная возможность, авторская — структурная, вневременная. Что если сталкиваются разнообразие с однообразием ради отрицания обоих, — как по Выготскому, ради третьего, катарсиса: ради отрицания самого радикализма перехода от одного к другому? — Тогда на подсознательном авторском уровне почувствуем идею целой поэмы: отрицание романтизма–радикализма.
Лотмана, конечно, не интересует художественный смысл столь тонкой фонологической структуры, вскрытой им самим (для него вскрывание структуры есть самоцель). Но меня–то — интересует. И, я думаю, этот интерес сто`ит проявить контрастно, что я и продемонстрировал.
Литература
1. Абульханова — Славская К. А. Диалектика человеческой жизни. М., 1977.
2. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970.
Написано в феврале 2002 г.
Зачитано в декабре 2002 г.
Возражения
Островская Н. К.:
Я не понимаю, зачем нужен такой доклад. Во–первых, что: получается, прочел несколько стихов, понял по звукам в них художественный смысл целой поэмы — и не надо читать всю поэму!? Во–вторых, никто ж ничего на слух не воспринял. Да и вообще это какая–то лингвистика. Мы не специалисты в этой области. А ведь к нам приходят на комиссию и люди случайные. Надо не испугать их. Надо ориентироваться на их восприятие.
Реплика
Зная из предпоследних выступлений докладчицы об ее идее предопределенности, мол, для Пушкина случая в жизни и прямом отражении этой предопределенности случая в жизни в пушкинских творениях, в частности, — в «Повестях Белкина», я собрал несколько наблюдений над текстом этих повестей, наблюдений, иллюстрирующих–таки предопределенность случая, но предопределенность не в жизни, а в этом пушкинском сочинении, жизнью не являющемся. Эти мои наблюдения иллюстрируют, в пику докладчице, не жизненную, а, так сказать, художественно–технологическую предопределенность случая. Всё, в том числе и случай, у Пушкина работает на художественный смысл цикла. И этот смысл состоит не в предопределенности случая.
*Первая случайность, организованная Пушкиным в «Повестях Белкина», есть то, что «ближайшей родственнице и наследнице» Белкина, Марье Алексеевне Трафилиной, «покойник вовсе не был… знаком». Согласитесь, что такое не часто в жизни случается. Все–таки ближайшая родственница и наследница… Наверно, двоюродная сестра матери Белкина, Пелагеи Гавриловны, в девичестве тоже Трафилиной. Пусть Белкин 17-ти лет «вступил в службу в пехотный егерский полк», а в таком полку, вечно меняющем место своей дислокации, двоюродной тете увидеть его было–таки невозможно. Однако и 17-ти предыдущих лет хватало, чтоб хоть однажды да познакомиться. Ан нет: «вовсе не был ей знаком». Вовсе.
Зачем Пушкин организовал эту случайность?
Можно ответить в духе Бочарова, задавшегося вопросом, зачем — всего на две строчки — привлечен Пушкиным ямщик в «Станционном смотрителе», увозивший Дуню с Минским. Ответ будет: чтоб увеличить количество лиц участвующих в повествовании.
Дух работы Бочарова заключается в обнаружении им (особенно хорошо это проиллюстрировано на «Станционном смотрителе») двуединого принципа поэтики Пушкина. С одной стороны, Пушкин обеспечил рамочную, — так ее называет Бочаров, — систему повествования: рамка мальчика из финала, рамка Пушкина, перетянувшая бальзаковскую фразу для описания того, как видит смотритель Дуню, сидящую с Минским в ее комнате в Петербурге, рамка ямщика, увозившего их, рамка смотрителя, охватывающая и рамку Пушкина, и рамку ямщика, но отдельная от рамки мальчика, и т. д. С другой стороны, Пушкин обеспечил как бы размывание этих рамок: <<один рассказ влился и смешался с другим>> [1, 167]. Бочаров тут ссылается на Виноградова, но выделяет курсивом виноградовские слова «слился» и «смешался». Я бы применил слово «консонанс» — благозвучие в слиянии разных голосов.
Это, — я бы назвал ее антислюсаревской (раз Слюсарь — фундатор психологической школы в изучении Пушкина) направленностью. Бочаров возражает на упреки об отсутствии психологической правды в том, например, что смотритель бальзаковскими глазами видит Дуню: <<правда Пушкина, еще не психолога в более позднем смысле, обще`е и шире «психологической правды»… Поэтому так свободно, не нарушая единства рассказа, рядом со сверкающим авторским описанием помещена фраза, «закрытая» целиком кругозором и голосом персонажа: «Смотритель постоял, постоял — да и пошел»…>> [1, 169–170]. И так — всюду, во всех повестях. Слияние голосов нужно было Пушкину, слияние в консонанс. А для этого — как можно больше персонажей надо для каждого эпизода.
Мог же издатель А. П. обратиться за сведениями о Белкине сразу к какому–нибудь соседу Белкина по имениям? Мог. Но тогда одним человеком стало бы в данных повестях меньше. А так — он полнее, этот <<повествовательный МИР — в исконном русском значении живого людского сообщества, той коллективной субъективности, через которую в повествовании Пушкина проходят факты, предметы, события>> [1, 181–182].
Марье Алексеевне Трафилиной, правда, далеко до того ямщика, которому одной строчки хватило и для проявления своеобразного (простонародного) голоса, и для определенной (объективной) точки зрения.
Однако и у Марьи Алексеевны имеется, пусть маленький, но позитивный вклад: она навела А. П. на такого соседа, который очень хорошо знал Белкина. Марья Алексеевна стала первой из того людского сообщества, в котором — по Пушкину — рождается правда, общая для всех. С нее начинается выражение консенсуса в сословном обществе, того художественного смысла цикла, ради которого он и был Пушкиным написан.
Можно сказать, — следуя за Бочаровым, — что даже Марья Алексеевна, имеет свой микроголос: «вовсе не был ей знаком», а в то же время знает о дружбе Ивана Петровича с ненарадовцем. Резкая она и внимательная. Каким–то духом семейной вражды с Белкиными веет от нее. И это тем более явно, что от слов ненарадовца веет духом соседской дружбы. А то и другое, смешиваясь с духом занудности, какой веет от А. П., создает это парадоксальное слияние, о которой Бочаров сказал: <<Но более всего замечательна та незаметность, с которой это происходит>> [1, 163].
*Следующая явная жизненная случайность — смерть родителей Белкина, «почти в одно время приключившаяся».
Ну а это зачем Пушкину понадобилось?
Это понадобилось, чтоб создать сильный стимул Белкину уйти из армии (причем в 1823 году, за два года до выступления декабристов). Иначе Белкин с большой вероятностью (судя по проявившемуся далее по тексту народолюбию его), оставаясь в армии, — этой кузнице мятежных настроений, — оказался бы в числе декабристов, в числе наказанных. И ему бы в конце 20‑х было не до собирания и записывания рассказов.
Пушкину же — для идеи консенсуса в сословном обществе — нужна была зародившаяся в армии продекабристская направленность Белкина. Чтоб и такая идейная позиция фигурировала в <<коллективной субъективности>>. Вот он Белкина и изъял из армии вдруг и перед восстанием.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "О сколько нам открытий чудных.."
Книги похожие на "О сколько нам открытий чудных.." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Соломон Воложин - О сколько нам открытий чудных.."
Отзывы читателей о книге "О сколько нам открытий чудных..", комментарии и мнения людей о произведении.