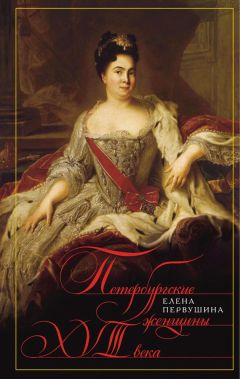Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "История немецкой литературы XVIII века"
Описание и краткое содержание "История немецкой литературы XVIII века" читать бесплатно онлайн.
Учебное пособие посвящено истории немецкой литературы XVIII века в контексте европейской культуры и литературы. Преимущественное внимание уделяется немецкому Просвещению, его философским, эстетическим, литературным поискам, его наиболее репрезентативным фигурам. Материал изложен в ракурсе жанрово-стилевой динамики немецкой литературы не только в соответствии с хронологическим принципом, но и с логикой развития основных родов литературы. По-новому, с учетом последних научных данных, представлены основные художественные направления XVIII века (просветительский классицизм, рококо, сентиментализм) и их преломление в немецкой литературе этой эпохи.
Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «Культурология» и «Романо-германская филология».
В том типе оды, который разрабатывал Гюнтер, яркие классицистические тенденции соседствуют с барочными, высокий пафос – с нарочито приземленными интонациями в духе «низового» барокко, торжественные интонации – с песенными структурами. Р.М. Самарин отмечал: «Стремительный и умело отчеканенный четырехстопный ямб оды Гюнтера, ее новый колорит, органически соединявший античную мифологическую декорацию с европейской современностью начала XVIII в., композиция оды, искусно развертывавшая политическую тему, – все это было ново для жанра немецкой и шире – европейской оды XVIII в. Ода Гюнтера была заметным шагом вперед по сравнению с одой французского или английского классицизма; Гюнтер опирался на французскую классицистическую традицию, но, преодолевая ее, продвигался дальше»[47]. Известен огромный интерес к поэзии Гюнтера, и к поэтике его оды в частности, со стороны М.В. Ломоносова, учившегося в Германии. Создатель оды русского классицизма, в которой также ощутимы тенденции барокко, ориентировался на оду Гюнтера.
Тенденции классицизма, и уже преломленного через просветительскую идеологию, очевидны в сатирических, полемических и поэтологических стихотворениях Гюнтера. Особенно показательна большая сатира, соединяющая в себе все три упомянутых плана, – «Разоблаченный Криспин из Швейдница в Силезии, или Злокозненность, наказанная музами» (1718). В образе Криспина (именем Криспинус некогда Гораций именовал одного из своих литературных противников) Гюнтер в первую очередь высмеивает бездарного Т. Краузе, однако в целом это – в духе классицизма – ненавистный поэту обобщенный образ придворного рифмоплета-педанта, холопа и ханжи, самодовольного обывателя. В этой сатире, написанной безукоризненно правильным и звучным александрийским стихом (точнее, его немецкой имитацией в виде шестистопного ямба, разработанной еще Опицем), Гюнтер излагает и свою эстетическую программу. Поэзия для него является результатом высокого союза Аполлона и Софии – поэтического дара и мудрости. Она предполагает соединение подлинного таланта и науки, учености; она должна возвышать души и бичевать пороки своего времени. Подобный подход чрезвычайно близок эстетике Просвещения, особенно просветительскому классицизму.
Особое место в поэзии Гюнтера и немецкой поэзии в целом занимает песня «На пути в Яуэр» («Auf der Reise nach Jauer»), написанная той самой холодной весной 1720 г., когда поэт отправился в одно из своих путешествий, едва не закончившееся смертью. И хотя впереди неизвестность, поэт полон веры в собственные силы. Он призывает друга отправиться вместе с ним, вместе делить радость и горе, вместе дышать воздухом свободы, вырваться из пут жалкого и ничтожного обывательского прозябания. Энергичный и упругий маршевый хорей, которым написана эта песня, а также выраженный в ней неукротимый порыв навсегда свяжутся в немецкой поэзии с мотивом странничества и отзовутся в поэзии немецкого штюрмерства и романтизма.
После 1720 г., после тяжкой весны, существования на грани жизни и смерти, в поэзии Гюнтера наступает перелом: усиливаются трагические и религиозно-мистические мотивы. Душа поэта ведет диалог с Богом, то принося покаяние, то задавая дерзкие вопросы, подобные вопросам библейского Иова. Это такие стихотворения, как «Покаянные мысли о состоянии мира» («Bussgedanken über den Zustand der Welt»), «Верность духа Богу» («Die Zuversicht des Geistes dem Gott»), «К Богу» («An Gott»), «Как был он через внутреннее утешение укреплен в своем нетерпении» («Als er durch innerlichen Trost bey der Ungeduld gestärket wurde»). Они образуют своеобразный цикл, в центре которого – болезненная и проклятая для человеческого сознания проблема теодицеи, проблема осмысленности мира и оправдания Бога перед лицом самого страшного и непонятного зла – страданий праведных и невинных. Как предполагают исследователи, постановку этой проблемы в творчестве стимулировали не только перенесенные поэтом страдания и невзгоды, но и внимательное чтение «Теодицеи» Г.В. Лейбница (1710). Поэт остро чувствует всю несправедливость мира, иронизирует над собой и этим обезбоженным миром и одновременно страстно жаждет Бога, жаждет истины. Своего рода метатекстом для религиозных стихотворений Гюнтера становится Книга Иова. Сознавая, что причина многих его бедствий в нем самом, поэт вместе с тем повторяет вслед за библейским героем дерзкий вопрос: почему в этом мире страдает именно тот, в ком «терпимость, совестливость, миролюбье, честь, // Прилежность, набожность, усердие в работе»? Почему страдают лучшие и чувствуют себя хозяевами жизни негодяи и лжецы? Поэт словно бы ведет спор с незримыми собеседниками (как некогда Иов со своими друзьями), которые пытаются его утешить, и гневно обличает несостоятельность прописных истин, фальшивость официально провозглашаемых розово-утешительных ценностей:
О, скопище лжецов, о, подлые скоты,
Что сладко о добре и кротости вещают!
Спасение сулят погибшим ваши рты,
А нищим вечное блаженство обещают.
Так где ж Он, ваш Господь? Где Он, Спаситель ваш,
Который все простит, коль все Ему отдашь,
Как вы внушаете?.. Где Сын его чудесный?
А где же Дух Святой – целитель душ больных?
Пусть явится! Ведь я больней всех остальных!
Иль маловато сил у Троицы небесной?!
С гораздо большей остротой, чем поэты-мистики XVII в., Гюнтер говорит о неразрешимых противоречиях бытия и сознания, о неблагополучии действительности. В его горьких вопросах нельзя не усмотреть и спор с концепцией предустановленной гармонии Лейбница, с его тезисом о том, что добро и зло уравновешены в мире, что Творец избрал наилучший из всех вариантов при сотворении мира. Как и в случае с Иовом, видение тотальной несправедливости мира, допущенной Богом, открывается поэту через его личное страдание:
Личина сорвана, нелепых басен плод!
И все ж я сознаю: есть Существо над нами,
Которое казнит, беду и гибель шлет,
И я… я избран Им лежать в зловонной яме.
Порой Оно спешит, чтобы меня поднять,
Но вовсе не затем, чтоб боль мою унять,
А смертных поразить прощением притворным,
То, указав мне цель, влечет к делам благим
И тут же мне велит сопротивляться им,
Чтоб счел меня весь мир преступником позорным.
Так вот он где, исток несчастья моего!
Награда мне за труд – нужда, обиды, хвори.
Ни теплого угла, ни денег – ничего.
Гогочут остряки, меня узревши в горе,
Бездушьем схожие – заметь! – с Тобой, Творец!
Друг оттолкнул меня, отвергли мать, отец,
Я ненавистен всем и ничего не стою.
Что породил мой ум, то вызывает смех,
Малейший промах мой возводят в смертный грех,
Душа очернена усердной клеветою.
И все же, несмотря на все метания и сомнения, душа поэта устремлена к Богу, и этим порывом преисполнены духовные песни Гюнтера, в которых он продолжает традиции П. Герхардта и по-новому варьирует их. Его духовные песни, как и всю его поэзию, пронизывает острое личностное начало, в них глубоко аналитическая мысль соединяется с трепетным религиозным чувством, высокий пафос – с достаточно простым словарем, торжественность интонаций – с песенными структурами. Такова, например, его «Вечерняя песня» («Abend-Lied»):
Дух высшей истины! Гряди!
Затепли огнь в моей груди,
Чтоб средь кромешного тумана
И непроглядной темноты
Дорогу освещал мне Ты —
Не жалкий луч самообмана.
Не покидай, великий Бог,
Меня среди ночных тревог.
И пусть, едва сомкну я очи,
Твой ангел явится ко мне
И оградит меня во сне
От ненавистных чудищ ночи.
Ты руку надо мной простер.
Но, глядючи в ночной простор,
Ищу Твой лик тревожным взглядом.
И в одиночестве зову
Тебя во сне, как наяву:
«Отец мой! Будь со мною рядом!
Тебе подвластный одному,
Я все бестрепетно приму
И все сочту веленьем Божьим,
Пусть станет в бытии земном
Мне этот сон последним сном,
А ложе это – смертным ложем.
Но если пощадишь меня
И солнце завтрашнего дня
Я восприму, как дар волшебный,
То, отогнав недобрый рок,
Мне повели проснуться в срок
И дай пропеть свой гимн хвалебный!»
Необычайно разнообразное по своим регистрам творчество Гюнтера стало живым мостом, связывающим две эпохи. Через во многом еще риторический строй его поэтической речи пробивается живая индивидуальность, сама поэзия понимается как «изначальная склонность души». В сущности, Гюнтер был первым немецким поэтом, сделавшим факты своей биографии достоянием поэзии. Остро личностное начало, бунтарские порывы, пронизывающие поэзию Гюнтера, искренность его языка будут особенно близки молодому штюрмерскому поколению, прежде всего – Гёте. Как замечает Ф. Мартини, «раскол в душе» Гюнтера и «правдивость его языка близки иррационализму эпохи молодого Гёте…Гёте увидел в нем своего предшественника»[48]. Сам же Гёте в «Поэзии и правде» отмечал особую смелость Гюнтера, избравшего служение поэзии, силу его таланта, мощь его творческой фантазии: «…поэт, если он не шел дорогой Гюнтера, играл в свете жалкую роль шута и блюдолиза» (здесь и далее перевод Н. Ман)[49]; Гюнтер «может быть назван поэтом в полном смысле слова. Он был наделен бесспорным талантом, пылким темпераментом, силой воображения, редкой памятью, умением схватывать и воссоздавать, поразительной творческой плодовитостью. Одухотворенный, остроумный, располагающий многоразличными знаними и редким ритмическим чутьем, он обладал всем для того, чтобы поэтическими средствами создавать вторую действительность рядом с обыденной, прозаической»[50].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "История немецкой литературы XVIII века"
Книги похожие на "История немецкой литературы XVIII века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Галина Синило - История немецкой литературы XVIII века"
Отзывы читателей о книге "История немецкой литературы XVIII века", комментарии и мнения людей о произведении.