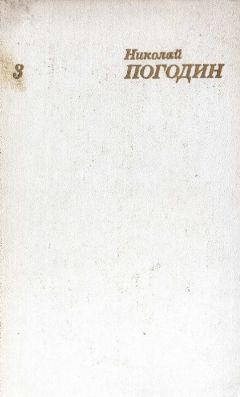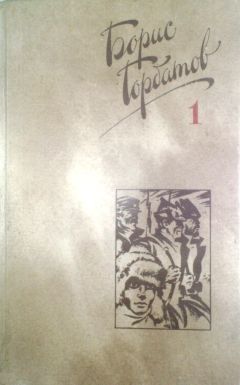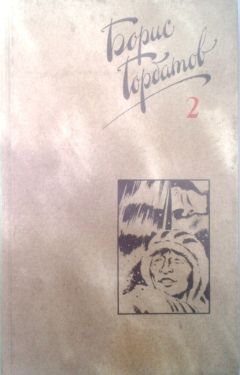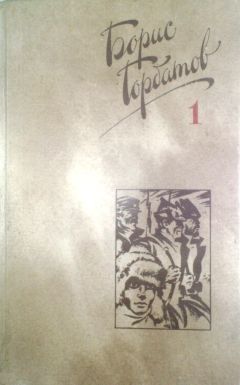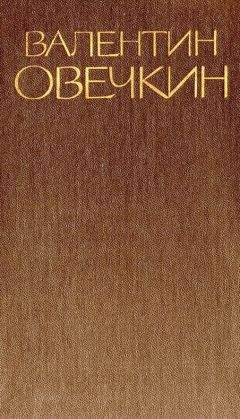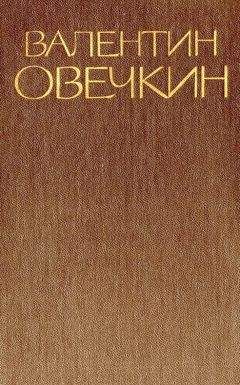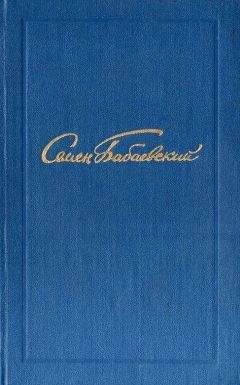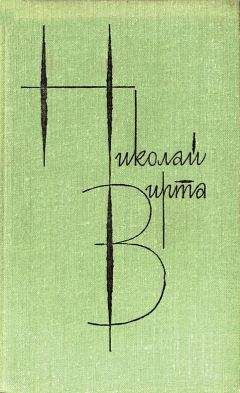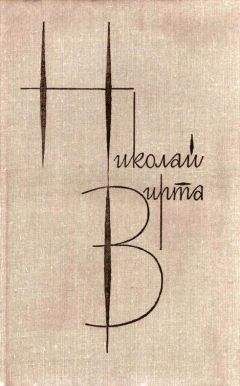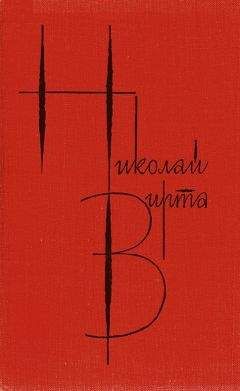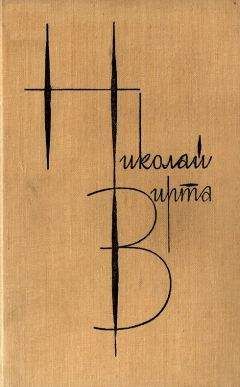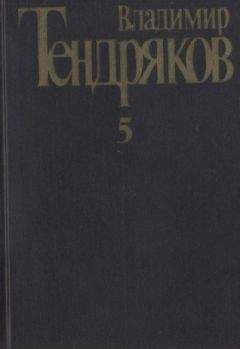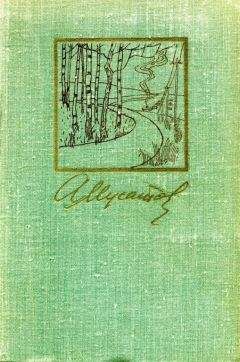Николай Погодин - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4.

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Собрание сочинений в четырех томах. Том 4."
Описание и краткое содержание "Собрание сочинений в четырех томах. Том 4." читать бесплатно онлайн.
В завершающий Собрание сочинений Н. Погодина том вошли его публицистические произведения по вопросам литературы и драматургии, написанные преимущественно в последнее десятилетие жизни писателя, а также роман «Янтарное ожерелье» о молодых людях, наших современниках.
В этой сцене, которая не длится и пяти минут, так много рассказано о нашем молодом поколении, и рассказано одно хорошее, если угодно, «идеальное», что одна сцена подобного жизненного насыщения и неотразимой жизненной правды может заменить целый мудрый трактат о положительном и идеальном герое нашего времени.
Но разве в пьесе «В добрый час!» одна эта сцена подобной жизненности? В том–то и захватывающая сила пьесы и спектакля, что все здесь переполнено богатством яркой, звонкой, неподдельной жизни. И оттого не знает зритель до последней минуты, чем кончится пьеса: жизнь, увиденная зорко, подслушанная чутко, понятая умно, не похожа на наши однотипные и серые сюжеты!
Вы не покинете этого спектакля с какой–нибудь тяжеловесно назидательной сентенцией, известной вам чуть ли не с детства. Какую тенденцию автор провел? А кто его знает… Будто бы никакой. Но нет. Большое искусство писать пьесу, между прочим, состоит в том, чтоб зритель не только не чувствовал ее тенденции, но и не замечал самой пьесы с ее ходами, нитями, узлами. Мне думается, что у автора много тенденций, потому что пьеса зовет к большим раздумьям о людских отношениях в семье, в делах дружбы, любви, отношениях поколений и о многом другом, чем поучительна наша жизнь. Но раздумья эти — светлые, от которых радостно жить. А причина этой большой радости от спектакля состоит в том, что автор и театр смело и поэтично выделили из жизни черты нового, составляющего гордость и достоинство советских людей.
Искусство, если под него подводить вещественность и даже видеть в нем живую Мельпомену с ее характером, сколько мне доводилось наблюдать, совершенно не заботится о местоположении, адресе и признанности сцены и уживается там, где ему, искусству, лучше всего дышится.
Вот все, что мне хотелось сказать о театре, именуемом Центральным детским, о молодом режиссере А. Эфросе, о всем ансамбле, явно дружном, остро творческом, сыгравшем этот спектакль.
Мне в этих заметках хотелось только откликнуться на появление пьесы В. Розова, заслуживающей большого литературного разговора. Мне хотелось сказать без оговорок и прямо о том, что в наших рядах появился новый, большой драматический талант.
— В добрый час!
1955
Кустанайские встречи
Пусть эти записки будут пестрыми и шероховатыми, как пестры были мои встречи с новоселами целинных земель и как шероховаты впечатления от этих встреч. От этого они сохраняют свою свежесть, передавая читателю хоть малую долю непосредственных впечатлений, перенесенных на бумагу. К тому же вот уже двадцать с лишним лет, как я не пишу литературных очерков и занимаюсь только пьесами да киносценариями, и на целину поехал даже не один, а с кинорежиссером М. К. Калатозовым «собирать материал» (как принято говорить) для будущей кинокартины. Поэтому в записках будут пробелы по части точного обозначения фактов, имен и всяческих данных, что мною, естественно, почти не отмечались.
Внимание мое в первую очередь приковывала молодежь. Характеры, истории, биографии, поступки, быт — вот что я старался запомнить, чтоб потом попробовать написать портреты наших молодых людей, поехавших осваивать целинные земли. Мне казалось, что, как всегда после подобной поездки, будет приятно и радостно работать для будущей кинокартины, рисуя лица и строя сцены по живым образцам.
Но не тут–то было.
Для того чтобы не распространяться по этому поводу очень долго, приведу негодующее замечание одного крупного кинематографического и театрального деятеля, кстати сказать, человека, настроенного дружески и к автору (то бишь ко мне), и к моей работе.
Прочитавши мой литературный сценарий, этот мой ценитель с негодованием и горечью сказал:
— Зачем вы ломаете и сводите на нет все мои представления о целине?..
Слова его относились не только ко мне, но и к будущему постановщику кинокартины, который вместе со мной наблюдал в жизни все, что потом вошло в киносценарий.
Этого примера, мне кажется, достаточно, чтобы каждому читателю, совершенно не посвященному в наши литературно–кинематографические дела, понять, с какой главной трудностью приходится сталкиваться автору, когда он начинает писать вразрез с установившимися представлениями.
И удивительное дело! Откуда у множества ценителей, редакторов, консультантов эти представления, если никто из них даже примерного понятия не имеет о географии этих мест, о том, где лежит сама Кустанайская область и какие птицы и звери там водятся! Но чем меньше у них подлинных представлений о сущей жизни, тем решительнее они нападают на литературный материал, совершенно не совпадающий с их застоявшимся кабинетным мышлением, и не пытаются даже критиковать этот материал ради его улучшения, а начисто отвергают со злобным намеком на клевету, которой–де занимается автор.
Я, например, хочу утверждать, что молодые люди, именуемые новоселами на целине, имеют очень небольшое сходство со строителями Комсомольска–на–Амуре, которых я тоже знал и видывал. То есть в основе поступка лежит общее и единое у нашей советской молодежи высокое чувство трудового подвига, но сейчас не те времена, прошла романтика и новизна первых пятилеток, была великая народная война, и самый труд на целине — это не постройка романтического города… Но первое, что скажет ценитель и критик, — это, конечно, будут слова о молодежи Комсомольска–на–Амуре и, следовательно, о том, что и на целине должно повториться то же самое.
А жизнь не умеет повторяться. В этом ее большое неудобство для всякого, кто хочет составлять о ней понятие и представление по эталонам, пусть даже самым превосходным.
Поэтому, повторяю, эти записки будут пестрыми и шероховатыми…
Шестого июня 1954 года, в воскресенье утром, мы поехали в Славянский совхоз, который расположился в тридцати пяти километрах на юг от Бурли — центра Карабалыкского района Кустанайской области.
Район, по нашим обычным понятиям, огромный, как огромна сама область, где 150–200 километров не считаются большим расстоянием. А в маленькой районной гостинице мы до этого познакомились с двумя почвоведами, которые разыскивают в этом районе двадцать тысяч гектаров затерявшейся и еще не выявленной удобной для посевов земли…
Утро холодное, с мелким, пронзительно секущим дождем, который можно принять по холоду за град. Мы в «победе» включаем отопление, и вся зелень степей, которая широко проносится за дорогой, выглядит необычно, странно сурово оттого, что холод злой, осенний, с тяжелыми синими тучами.
Эта летняя степная стужа, обычная для здешних мест, нагоняет на душу какую–то щемящую печаль и тоску по солнцу и теплу. Мне больно подумать, как же в эту стужу живут люди в палатках и фанерных сооружениях, где и костра не разведешь, чтоб обогреться. А они живут здесь так с марта и апреля во всех новых совхозах, расположивших свои усадьбы на степных просторах и, как говорится, на голой земле. И пока я нежно болею за этих людей, наша «победа» въезжает в улицу мокрых зеленых палаток, и на улицу выбегают выглянуть молодые обитатели, которые ничего не знают о моей к ним жалости, а то бы они оделись потеплее в угоду моему жалобно–нежному состраданию… Нет, они ведут себя так, точно на дворе теплынь и радость, и мне уже потому неловко расспрашивать, как они привыкли к резко континентальному климату северо–западного Казахстана. Не нужно говорить об этом еще и потому, что среди молодежи я узнаю много спортсменов по их форменным майкам, приготовившихся к воскресным состязаниям.
Я давно исподволь, осторожно, всяческими сторонними расспросами стараюсь наводить моих молодых собеседников на причины, побудившие их поехать на целинные земли. А здесь вдруг, неожиданно для себя заговорил об этом впрямую. И вот как это получилось.
Для беседы мы обосновались в одной из больших палаток–общежитий, у койки секретаря комсомола. Палатка «семейная»; преобладают бывшие жители подмосковного города Подольска, которые, как и всюду земляки, держатся ближе друг к другу, стайкой. И оттого, что секретарь комсомола показался мне человеком решительно–прямолинейным и грубовато–точным, который ничего сочинять не станет, я обратился к нему с прямым вопросом:
— Что побудило вас лично поехать на целину?
Он ответил без замедления:
— Затишье…
В этом кратком ответе содержался какой–то очень важный смысл, но я не мог сразу понять его значения и потому молча ждал объяснения.
Секретарь комсомола с улыбкой воспоминания поглядел по сторонам, встретился с товарищами взглядом и опять–таки серьезно, суховато, с резкими интонациями рассказал нам, как затишье заставило его поехать в эти далекие края.
— Жили мы втроем в одной комнате — друзья. Все члены горкома. Услыхали ночью по радио на площади: целинные земли. Очень заинтересовало. А у нас в городе затишье, больших новых дел не предвидится. Пошли в тот же вечер к секретарю горкома комсомола, условий не спрашивали. Теперь все здесь.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Собрание сочинений в четырех томах. Том 4."
Книги похожие на "Собрание сочинений в четырех томах. Том 4." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Погодин - Собрание сочинений в четырех томах. Том 4."
Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений в четырех томах. Том 4.", комментарии и мнения людей о произведении.