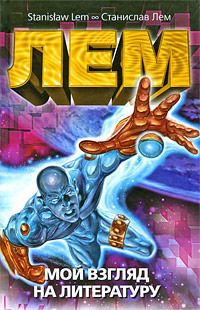Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Описание и краткое содержание "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее" читать бесплатно онлайн.
В книге собраны эссе швейцарского литературоведа Петера фон Матта, представляющие путь, в первую очередь, немецкоязычной литературы альпийской страны в контексте истории. Отдельные статьи посвящены писателям Швейцарии — от Иеремии Готхельфа и Готфрида Келлера, Иоганна Каспара Лафатера и Роберта Вальзера до Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша, Адельхайд Дюванель и Отто Ф. Вальтера.
Но Роберт Вальзер — в свое время — не предлагал социальной программы, и проблема демонтажа того, что тогда называли поздним капитализмом, его ни в коей мере не интересовала. Произведения Вальзера не заключают в себе «послания», хотя дидактический жест присутствует в них повсеместно. Чему же люди семидесятых годов могли у него научиться? Смирению? Скромности? Или же счастью быть слугой и надеяться получить оплеуху от красивой хозяйки дома? Любая попытка приписать Вальзеру какое-то конкретное «послание» приводит к замене вальзеровского саботажа бюргерской системы ценностей новой, не менее бюргерской, системой и новыми менторскими речами. Ибо можно ли себе представить что-либо более бюргерское, нестерпимо-обывательское, чем учение о смирении, скромности и самоунижении, которое часто — напрямую или обходным путем — приписывают Вальзеру? Разве это не те же мнимые добродетели, которые, начиная с XVIII века, общество навязывало женщинам — пока женщины наконец не решились поднять бунт?.. Противо-слово вальзеровских юношей на самом деле деструктивно и только: его содержание сводится к отрицанию. Оно не формулируют никакой цели. Ибо стремится в принципе упразднить любую цель. Неистовое счастье от переживания происходящего здесь и сейчас, счастье, которое в любой момент может смениться помрачением, — это вовсе не набросок плана жизни, а торжествующий аргумент против всякого целеполагания.
Думаю, теперь было бы уместно сделать краткое отступление и бросить взгляд назад, на историю менторов в немецкой литературе. Вальзер ведь не единственный, кто деформирует традиционную фигуру бюргерского ментора. Это происходит и у Томаса Манна. В романе «Королевское высочество», писавшемся в то же время, что и «Семейство Таннер», фигура ментора подвергается ироническому преломлению, становится двусмысленной. Единство идеи и внешнего облика несущей эту идею сильной личности (которое еще у Келлера выражено в великолепной заключительной фразе новеллы «Фрау Регель Амрайн и ее „младший“»[214]) у Томаса Манна нарушается. Ментор здесь какой-то странный, и его имя — тоже. У Томаса Манна ментора зовут доктор Юбербейн. В имени Юбербейн (Überbein) прячется намек на «сверхчеловека» (Übermensch), то есть на Ницше, чье анти-эгалитарное, антилиберальное учение пропагандирует этот ментор. Доктор Юбербейн — предшественник Нафты из «Волшебной горы». В «Волшебной горе» молодой герой, Ганс Касторп, вступает в конфронтацию сразу с двумя менторами, которые, будучи страстными идеологами, борются за его душу. Сеттембрини — курьезный «остаточный вариант» буржуазного либерала, Нафта — фундаменталист профашистского толка. Как мало способны и доктор Юбербейн, и Нафта предложить что-то по-настоящему новое по сравнению со все более деградирующим буржуазным миром, показывает уже тот факт, что оба они в конце концов бессмысленно кончают с собой. Менторский дискурс у Томаса Манна мутирует в трагикомедию, тогда как у вальзеровских юношей (которые отбирают у ошеломленного ментора его роль и сами произносят громогласное противо-слово) этот дискурс превращается в подлинно комическое событие. В образе же Беньяменты, персонажа романа Вальзера «Якоб фон Гунтен», череда бюргерских менторов находит настолько дисгармоничное завершение, что понять эту фигуру можно только по контрасту с гармонично-монотонным затактом всей вереницы менторов: моцартовским образом Зарастро. Беньямента — ментор как пустая форма, воплощенное Ничто; и в этом смысле он имеет глубинную родственную связь с нацеленным на ничто вальзеровским юношей. Пустыня, куда в конце концов направляются вместе Беньямента и Якоб фон Гунтен, ментор и его адепт, — это не место возрождения, не традиционный ландшафт инициации, а именно пространство сейчасности, полностью отстраненное от каких-либо целей и от будущего.
Мудрые изречения состоят на службе у искусстваОткуда же тогда берутся все эти мудрые изречения, рассыпанные по текстам Вальзера? Не следует ли все-таки считать их посланиями — пусть и маленькими посланиями, робкими сообщениями, которые должны побудить нас вести правильную, лучшую жизнь?.. Увы, все попытки приписать Вальзеру какую-то этическую программу разбиваются о его парадоксы и противоречия. И связано это не с особенностями нравственных воззрений Вальзера, а с его искусством. Как вальзеровские юноши переворачивают с ног на голову драматичную сцену встречи адепта и ментора, так же и вальзеровские тексты переворачивают традиционное соотношение между литературной формой и заключенным в ней «посланием». Согласно правилам бюргерского искусства, удачный текст всегда состоит на службе у некоей истины: смысл и предназначение текста заключаются в том, чтобы сообщать эту истину. В литературе радикального модерна, к которой относится и Вальзер, все истины состоят на службе у литературной формы. Значимость текста уже не измеряется по весомости выраженной в нем идеи, а наоборот, идея признается значимой лишь постольку, поскольку она способствует возникновению совершенного текста. Чтобы прозаическое сочинение обрело окрыляющую нас музыкальность, какой-то сюжет, конечно, необходим, но в качестве сюжета может быть выбрано что угодно. И чем незначительней повод, тем легче пишется текст, тем больше свобода автора от каких бы то ни было обязательств. В реализации такой свободы и заключается вальзеровское искусство. Найдя подходящий повод, Вальзер эксплуатирует его до последней возможности, до полного абсурда, — повторяя то, о чем уже многократно говорил, или варьируя один и тот же мотив в третий, в пятый, в седьмой раз. Иными словами, он находит все новые способы выражения для одного и того же и накапливает прогрессирующую избыточность, в которой первоначальная мысль все более разжижается, тогда как музыкальность, наоборот, концентрируется, порой повергая читателя в состояние транса. Поводом для рассуждений может быть все, что угодно: колбаса или Генрих фон Клейст, битва при Земпахе[215] или сигарета, гвоздь, торчащий в стене, или Иисус Христос. Темы — поразительно разноплановые, но художественный уровень произведений от них не зависит. И «Клейст в Туне»[216], и «Колбаса»[217] — неотразимо-привлекательные тексты, вершины вальзеровской прозы. Они возникли в том пространстве отвержения цели, где неистовое счастье периодически сменяется помрачением мира. Вальзер бросает в топку своего творчества всё, что угодно, лишь бы только продолжать писать: он использует в равной мере банальности и трагедии, бессмыслицу и глубокомыслие. Непостижим для нас остается только биографический черный ящик: мы не знаем, какими были сокровенные переживания Вальзера в процессе такого письма. В его текстах на этот счет можно найти лишь разрозненные намеки. Я думаю, что эти переживания тоже колебались между полюсами счастья и помрачения. Вальзер, наверное — подобно Кафке, — переживал акт писания как экстаз, как ощущение полета и нарастающую интоксикацию организма; но, в отличие от Кафки, который часто рассказывал о своих переживаниях возлюбленным, не щадя их, Вальзер ни в чем таком никогда не признавался.
С той же позиции мы должны смотреть и на «мудрые изречения» Вальзера. Их задача — сделать возможным продолжение текста (или всего лишь написание следующей фразы, которая повлечет за собой еще одну). Неважно, глубоки ли эти изречения, или банальны: обрисованную задачу выполняют и те, и другие. Как Вальзер — в текстах — только потому столь охотно гуляет, что во время прогулки ему то и дело попадается что-нибудь, задающее тему для следующего абзаца, точно так же он может «гулять» и по ландшафтам нравственных учений, рассматривать панорамы моральных проблем, затрагивать темы из педагогического дискурса, характерного для эпох, предшествовавших модерну. «Сочинения Фрица Кохера» — первая прогулка такого рода. Здесь мы найдем и первое откровенное признание в приверженности этой эстетике:
Я люблю писать обо всем. Меня привлекает не поиск интересной темы, мне интересно находить утонченные красивые слова. Могу извлечь из одной идеи десять, нет, сто идей, но как раз главная тема не приходит в голову. Пишу обо всем подряд. Потому что мне приятно заполнять строчки изящными буквами. А о чем писать, мне совершенно безразлично[218].
Вальзер и Флобер, или «Декеллеризация»Процитированный отрывок упраздняет то бюргерское понимание искусства, венцом которого когда-то представлялись фигуры серьезных менторов (ведь и пространство Сикстинской капеллы увенчивают фигуры сивилл и пророков). Вальзер не знал, что в «Сочинениях Фрица Кохера» он чуть ли не с дословной точностью пересказал эстетическую концепцию Гюстава Флобера, многократно задокументированную в письмах французского писателя[219]. Флобер яростно оспаривал точку зрения, согласно которой литература должна выполнять дидактическую функцию и отличаться высоконравственным содержанием; он боролся против иерархии тем, то есть против мнения, что произведение искусства высокого уровня предполагает и возвышенный предмет изображения, выбор же низменного предмета изображения неизбежно приводит к тому, что и соответствующее произведение искусства будет низкого уровня. Сам Флобер намеренно выискивал банальные сюжеты, чтобы на их основе развивать то, что представлялось ему наивысшей ценностью: стиль (литературное совершенство). «Bien écrire le médiocre <…> cela est vraiment diabolique. <…> Ça s’achète cher, le style!» — пишет он однажды. То есть: «… хорошо написать о заурядном <…> — дьявольски трудно <…>. Дорого достается нам стиль!»[220]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Книги похожие на "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Отзывы читателей о книге "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее", комментарии и мнения людей о произведении.