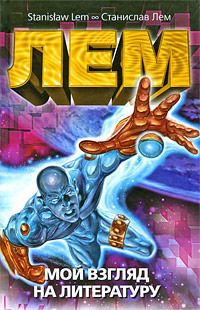Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Описание и краткое содержание "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее" читать бесплатно онлайн.
В книге собраны эссе швейцарского литературоведа Петера фон Матта, представляющие путь, в первую очередь, немецкоязычной литературы альпийской страны в контексте истории. Отдельные статьи посвящены писателям Швейцарии — от Иеремии Готхельфа и Готфрида Келлера, Иоганна Каспара Лафатера и Роберта Вальзера до Фридриха Дюрренматта и Макса Фриша, Адельхайд Дюванель и Отто Ф. Вальтера.
В этом смысле главный персонаж романа Вальтера Маттиаса Диггельмана «Наследие» (1965), да и сам роман, могли бы рассматриваться как корректива к дюрренматтовским манипуляциям с великанами, карликами и вневременными аллегориями. Диггельман сочетает в своем романе документальность и вымысел. Его беженец лишь через двадцать лет после Второй мировой войны, дожив до тридцати, узнаёт, что он когда-то был беженцем. И что у него, выросшего в Швейцарии и воспитанного в христианской вере, еврейский отец, который вместе с женой и своими родителями при попытке выехать из гитлеровской Германии в Швейцарию был остановлен на границе, отправлен назад и позже убит в концентрационном лагере. Роман, где шаг за шагом разрабатывается этот сюжет, намеренно заострен против «Андорры» Макса Фриша. Диггельман хотел ответить на притчу Фриша (которую считал анти-историчной) документированным повествованием о конкретном времени. Главный персонаж этого романа, опять-таки, не является образцовой фигурой беженца; но он посредник: благодаря его изысканиям актуализируется память о судьбах многих беженцев и, что еще важнее, о негуманной политике в отношении беженцев, которую проводила официальная Швейцария во времена национал-социализма.
…рассказывает она и о швейцарцах на чужбинеОни выезжают из страны, они въезжают в страну… Дополнение к теме «Чужак в Швейцарии» — «Швейцарец на чужбине». Такой персонаж еще в XVIII веке прославился своей будто бы неодолимой тоской по родине, к которой в тот аффектированный век люди относились весьма сочувственно. Ее даже пытались объяснять разницей между атмосферным давлением в горах и на равнинах. Тоска по родине оказавшихся на чужбине швейцарцев была сентиментальной оборотной стороной столь же легендарной алчности швейцарских наемников. (Pas d’argent, pas de Suisses[64], гласит известная поговорка.) Сопоставив то и другое, можно предположить, что тоска по родине находящихся на чужбине швейцарцев резко возрастала, когда им не платили жалованье. Еще Иоганна Шпири, в романе «Хайди», умело эксплуатировала легенду об этой особой тоске по родине. Проанализировать литературный образ швейцарца на чужбине, со всеми его типичными разновидностями, — привлекательная, хотя и неподъемная задача; неподъемная не в последнюю очередь из-за интенсивно-страннического образа жизни самих швейцарских писательниц и писателей, отражающегося, конечно, в их творчестве. Но имеются определенные типы персонажей, за судьбой которых можно было бы проследить: например, наемники, а начиная с XIX века — еще и солдаты Иностранного легиона. Солдат принимает разные литературные обличья; как монументальная фигура он предстает в «Истории жизни…» Ульриха Брекера, в «Крестьянском зерцале» Готхельфа, в «Гурраме» и других текстах Фридриха Глаузера. Удивительно, что тема военной службы периодически проскальзывает и у Макса Фриша; самое сложное из ее фришевских воплощений — мучительные воспоминания Штиллера об участии в испанской гражданской войне. Если вспомнить балладный жанр XIX века, то здесь не лишенному жути стихотворению Готфрида Келлера о марширующих по пустыне легионерах, «Поход дремлющих» (Schlafwandel), противостоит роскошный комизм «Прежних швейцарцев» Конрада Фердинанда Мейера. В стихотворении идет речь о швейцарской гвардии Папы Льва XIII, которая в 1878 году устроила бунт во дворце, потому что новоизбранный наместник Петра не выплатил ей причитающуюся по такому случаю надбавку к жалованию. Мейер остроумно обыграл сходство нынешних швейцарцев с «прежними» ландскнехтами, чья алчность многократно отмечалась в разных источниках. Ведь название «Прежние швейцарцы» относится к швейцарскому отряду, состоящему из современников Мейера, но в этих солдатах, помимо любви к родине, вдруг с прежним пылом взыграла старейшая страсть швейцарцев, любовь к деньгам[65]:
Они, чеканя гулкий шаг, проходят комнат ряд,
На фресках Рафаэля не задерживая взгляд, —
В наряд старинный предков отряд их облачен,
Как будто в Муртен, к бою, всех сзывает горн:
«Святой отец, тебе лучше не обольщаться,
Так не может, не будет впредь продолжаться!
Жалеешь для нас денег, и дров, и свечей,
Да только не допустим мы подобных вещей!
Знаешь: каждый раз, как папы здесь умирали,
Всем гвардейцам по десять монет выдавали!
Мы заслужили награду, как боевая коллегия,
Так не лишай нас дарованной нам привилегии!
Отче святой, подумай и вспомни, кто мы такие!
Хоть и не знать, но, как видишь, люди лихие!
Когда остаемся без денег, сам черт нам не брат:
Опаснее львов недовольный гвардейский отряд!
Раскинь мозгами, имеет ли смысл так скупиться!
Коль прижмет, мы сами найдем, чем поживиться,
Бучу устроим, похлеще охотничьей драки-свары!
Растащим все ценное, вплоть до папской тиары!»
Крестным знамением Папа тогда себя осенил,
Талеры выдал: для ссоры с отрядом не было сил…
И «львы» тотчас приняли самый умильный вид:
Пускай, мол, Отче святой теперь их благословит.
В целом можно сказать, что швейцарская эмиграция, этот важный аспект социально-экономической истории, богаче представлена в исторических исследованиях, чем в литературе. Однако имеются два знаменитых исключения. Первое литературное произведение удивительно тем, что в США его знает каждый ребенок, тогда как в Швейцарии оно совершенно исчезло из общественного сознания. Речь идет о написанной для юношества книге «Швейцарский Робинзон», 1812 года, которая благодаря одному гениальному мотиву вошла в мировую сокровищницу архетипических представлений. Некий швейцарский пастор, который с многодетной семьей направляется в Австралию, терпит кораблекрушение и, вместе со своими близкими, обретает спасение на экзотическом необитаемом острове. Они должны как-то выжить, и тут им очень помогают всяческие инструменты и утварь, по счастью тоже выброшенные волнами на берег. Рассказ бесконечен и насыщен всеми естественнонаучными и техническими знаниями, какими мог обладать приверженец Просвещения в конце XVIII века, а сверх того — благочестием, вдохновленным педагогическими задачами. Домочадцы пастора совершают дерзкие экспедиции во внутреннюю часть острова, где им попадаются животные и растения со всех континентов. Но самая эффектная находка автора сего достославного сочинения — «древесный дом», который семья строит для себя на ветвях дерева-гиганта, чтобы жить там, не опасаясь диких животных. Этот «древесный дом» воспламенил фантазию бессчетных детей и в США вплоть до сегодняшнего дня воплощается в тысячах древесных домиков, возводимых в укромных уголках частных садов. Английский заголовок книги, «Швейцарское семейство как Робинзон» (The Swiss Family Robinson), отождествляется теперь с детской мечтой о древесном доме. Количество англо-американских обработок этого сюжета — кинофильмов и телесериалов — уже практически необозримо, но постоянно продолжает расти. Семейная история Робинзонов популярна во всем мире не меньше, чем роман Шпири о девочке Хайди, вот только в самой Швейцарии никто об этом не знает и индустрия туризма (в частности, бернского) до сих пор не пыталась извлечь какую-то выгоду из неувядающего бестселлера. Дело в том, что изобретатель истории — пастор бернского собора Йоханн Давид Висс (1743–1818). Он долгое время рассказывал ее своим детям и включил в нее все, что знал о мире; его сын Йоханн Рудольф Висс (1782–1830), профессор философии и писатель, тоже живший в Берне, сделал из этого книгу и успел издать ее при жизни отца, в 1812 году, в двух томах, к которым позже прибавились еще два. Подобно тому, как не существует полного собрания сочинений Иоганны Шпири на немецком языке, а вот на японском оно имеется, оригинальную немецкоязычную версию «Швейцарского Робинзона» давно уже нигде не найдешь, зато в авторитетной серии Penguin Classics издан полный и неизмененный текст романа на английском языке — с волнующим детские сердца изображением «древесного дома» на обложке. Здесь мы сталкиваемся с поразительным феноменом: швейцарский роман об эмигрантах сам стал весьма удачливым эмигрантом. Странническая фантазия обоих Виссов породила произведение, которое, несмотря на многочисленные попытки оживить интерес к нему, не было по достоинству оценено швейцарскими читателями. Если бы «древесный дом» стоял на одном из альпийских пастбищ, все, возможно, повернулось бы по-другому.
Второе исключение, прославленное в литературе, это судьба (на сей раз засвидетельствованная историческими источниками) одного швейцарского эмигранта — генерала Саттера (собственно, Зуттера). Судьба эта настолько тесно переплелась с историей американской цивилизации, что образ генерала Саттера можно считать бессмертным. Саттер (о чем в какой-то мере знают и в Швейцарии), потерпев на родине ряд экономических неудач, в конце концов стал владельцем крупного земельного участка в Калифорнии. Сами эти экономические неудачи были вызваны его действиями, небезупречными с точки зрения закона, поэтому отъезд Саттера из Швейцарии в 1834 году сильно смахивал на бегство. Саттер приобрел большую часть долины Сакраменто, где и хозяйствовал, назвал ее Новой Гельвецией и правил там, как король. Потом вдруг на его земле обнаружили золото. 24 января 1848 года. Саттер пытался утаить этот факт, но не смог; вскоре сотни тысяч людей устремились от Сан-Франциско в глубь его владений. Земли генерала попросту захватывались, подвергались опустошению; юридической практики, которая могла бы этому воспрепятствовать, тогда не существовало. Генерал и сам прежде не обращал внимания на собственнические права местных индейцев. Саттер обеднел — и именно в таком качестве, как трагический контрастный образ к чудовищному количеству калифорнийского золота, которое по справедливости должно было бы принадлежать ему, вошел в историю. Этот сюжет многократно подвергался литературной обработке — например, в пьесе Цезаря фон Аркса[66]; но особенно яркое воплощение он получил у Блеза Сандрара, самого авантюрного швейцарского автора XX века, в романе «Золото» (1925). Сандрар описывает жизнь Саттера в лаконичной, ритмизированной прозе, тон которой кажется то холодным, то пламенным — это своего рода баллада, занимающая промежуточное место между экспрессионизмом и «новой вещественностью». Сандрар, который сам постоянно вел странническое существование, очевидно, увидел в Саттере родственную душу. Этим, наверное, и объясняется необычная повествовательная техника книги, отчетливо выделяющейся на фоне многих добротных прозаических произведений первой половины XX века. Сандрар, должно быть, понимал, что и сам он, как генерал Саттер, мог бы стать литературным персонажем; хотя никогда нельзя определить, в какой мере его дерзкие книги отражают то, что он действительно пережил, скитаясь по всему миру и постоянно полагаясь на волю случая, а в какой — являются порождением его творческого сознания. Но даже если верно второе, фантазии Сандрара следует отнести к самым смелым экспедициям эпохи литературного модерна — из тех, исходным пунктом которых была Швейцария.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Книги похожие на "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Петер Матт - Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее"
Отзывы читателей о книге "Литературная память Швейцарии. Прошлое и настоящее", комментарии и мнения людей о произведении.