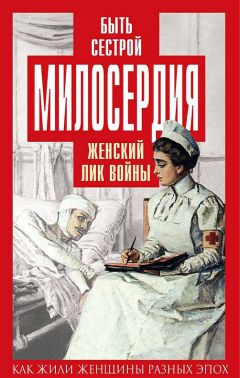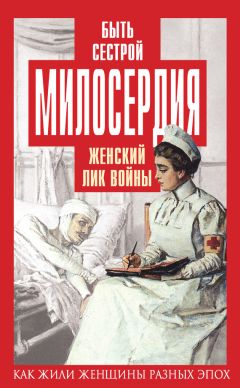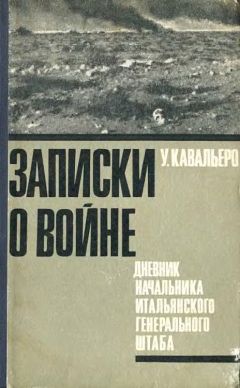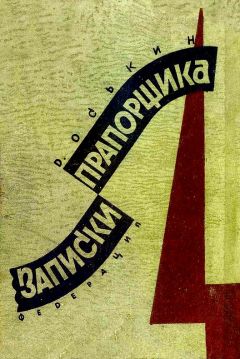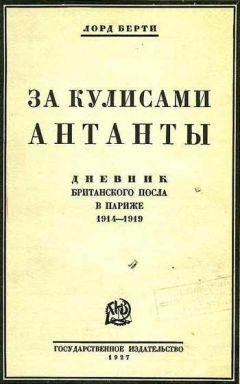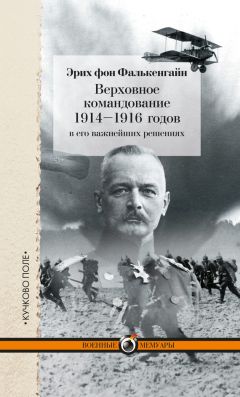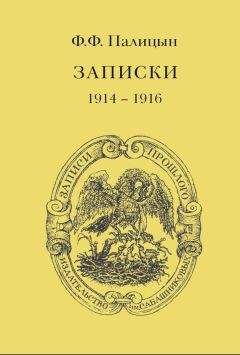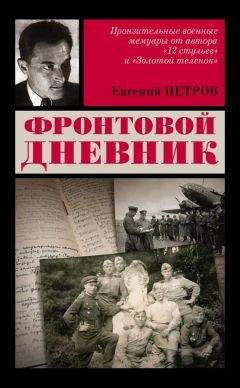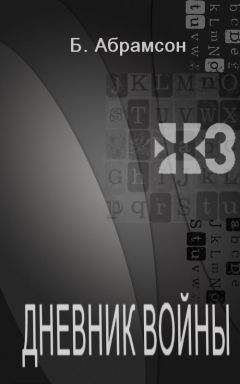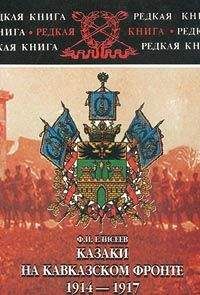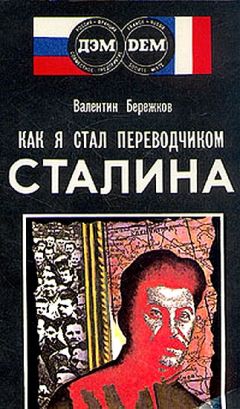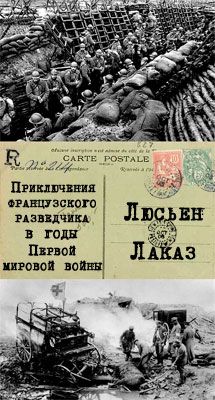Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дневник. 1914-1916"
Описание и краткое содержание "Дневник. 1914-1916" читать бесплатно онлайн.
Дмитрий Фурманов – военный и политический деятель, журналист, прозаик. Дневник охватывает период с 1914 по 1916 год и описывает события Первой мировой войны, во время которой автор служил в качестве брата милосердия на Кавказском фронте, в Галиции, под Двинском. Эти записи отличаются глубокой искренностью, автор делится своими личными впечатлениями, рассказывает о беседах с простыми солдатами и мирными жителями, непосредственными свидетелями военных действий и ситуации в тылу.
Книга адресована всем интересующимся военной историей.
Разом оторвало ему левую руку и выбило правый глаз. Порох велся в лицо и выступил темно-синими точками.
– Приезжаю это я сюда, на распределительный пункт, а сестричка такая хорошая, молоденькая, свежая такая: «Что это, говорит, солдатик, какой ты грязный, дай-ка я помою тебя…» – «Да, мол, вот уж второй месяц не мылся, помойте, пожалуйста.»
Шабрила она, шабрила, – ну разве его вымоешь? А я, значит, все молчу. «Да что это, говорит, лицо-то у тебя не отмывается?» А я ей: «Это, сестрица, германская пудра, она хорошо, мол, пудрит!» – «А что это, говорит, за германская пудра?» Ну объяснил, конечно, рассмеялась, перестала тереть.
ЗарайскийКак он ни просил, как ни придумывал, а дольше здесь оставаться было нельзя – наутро его выписывали. 0,2 зрения у него сохранилось, лечение было бесполезно, и его выписали. Пожал он нам руки, пошел. У него ни кола ни двора. Тягло сдает в аренду, рублей 80 в год нагоняет, но все деньги идут на ученье дочки Наташи, ей 15 лет. Работает он последние года ломовым извозчиком, там и глаза попортил. И представляю я, как вышел он из больницы, сошел вот с крыльца и призадумался: в которую же сторону теперь идти? Ведь совершенно некуда деться человеку, а по Москве слепой еще угодит как раз под трамвай. Мечтал о сумасшедшем доме: там, говорит, хоть кормят хорошо, а то куда же я пойду теперь слепой-то? Есть у него какая-то бумага, по которой он считается постоянным кандидатом в желтый дом, и вот он думает ее предъявить. «Только трудно уж оттуда во второй раз будет выбраться, а по воле там скоро затомишься. Зато, братец ты мой, сады какие, разные там деревья, пруды – что душе хочется.»
Вот вам и исход – сумасшедший дом.
Перед операциейДедке на утро должна быть операция: будут вырезать глаз – cancer, рак по-нашему. И вот он мучится целый вечер, целую ночь. То и дело бегает в уборную, свертывает цигарки, курит одну за другой. Останавливает встречных, спрашивает, что это за болезнь такая, самый этот рак (а он прислушался, что говорили доктора, и запомнил название), и, если кто охотно начинал разводить балясы про неизвестное, никогда и неслыханное слово, дедушка развешивал уши и жадно ловил нелепые сведения. Собиралась кучка и говорила уже про операцию – что и как. Тут находились знатоки, указывали размеры тех клещей, которыми будут тащить глаз, говорили, как будут его долбить, надрезать острым ножичком, подпиливать, прокалывать, выдавливать, выжимать, прижигать – и чего-чего только тут ни говорилось! Когда я дедку поздно вечером застал в уборной среди такой кучки, он был уже загнан, запуган, словно заяц. По возможности просто и спокойно объяснил я ему, в чем дело, и дедка успокоился, но успокоился только на время, пока я был с ним, а потом снова начал свертывать цигарки и бегать в уборную, а там уж не мог утерпеть, чтобы к кому-нибудь не обратиться с вопросом, ну а скорбные вести крепче отрадных запечатлеваются, так и промучился целую ночь, на минуту глаз не сомкнул, а все от товарищеских рассказов.
13 января
Андрей Филиппыч говорит тоненьким, визгливым голоском, говорит авторитетно, но принимает возражения и мирится, если они доказательны. Он служил лакеем в дворянском собрании, а потому любит закидывать фразы вроде «Сидят тут четыре полковника и два генерала, а я, конечно, рядом…», «Да… сам слышал, от генерала слышал…». На такие сообщения обычно не отвечали, вся палата замирала, и только Степан Иваныч, извозчик по профессии, которого почему-то все мы целую неделю считали за дьякона, только он, подобострастно изогнувшись на постели, поглаживая в такт рассказу свою рыжую редкую бороденку, покрякивал; «Так, так. Да, так вон оно што!..»
А остальные все молчали. И вот Андрей Филиппыч завел:
– А вы думаете, зря его в ссылку-то услали, на Кавказ-то? Нет, голубчик, тут дело все раскрылось начистую: его, значит, обличительно представили к допросу, а когда дознание было совершено и улики (эх, много улик!), тут, значит, уж все было кончено, вроде шпиона. Вот вам и наши командующие.
– Нет, правда? – ввернул о. дьякон.
– Так што ж я, смеяться буду? Сам слышал, от самих генералов и полковников. Это все попервоначалу только: Николай Николаич да Николай Николаич. Ну а ему што? Напишет, что повесил трех, там, германских командиров, а повесит наших, да выберет еще самых лучших, – вот он кто, ваш-то Николай Николаич. А как дознание сняли, как эту самую историю раскрыли, так его, голубчика, и в ссылку. Теперь где-то, говорят, на Кавказе на острове сидит.
– Так он же командует, – поднялся Максимов, – на Кавказе командует.
– Где он там командует? Это пишут только, а разве ему дадут теперь?.. Я же говорю вам, что в ссылке, а потому и пишется все время: «Без перемен да без перемен». Ведь оно как дело-то закрасилось, а Ранекампфа ему друг-товарищ.
– Да нет, это не так, – запротестовал Максимов. – Николай Николаич-то немца не любил, это не так.
– Да я же от самих генералов слышал, а войско наше тогда и напугалось, как узнало про самую эту измену, а потом и узналось и про город Тулу.
Все замерли. Батюшка приподнялся на подушке. Максимов встал, а дядя Тетерев, почтенный псевдодьякон, часто-часто затеребил жиденькую бороденку. Про Тулу никто ничего не знал, но и не спрашивал, ждали, когда Андрей Филиппыч зачнет сам. И он зачал:
– Там, в Туле-то, завод имеется: ружья, пушки разные, снаряды делают. И что же?
Он обвел всех испытующим взглядом через темные зеленые свои очки.
– И что же? Там, в глубоких подвалах, в таких подвалах, про которые никто не знал, оказался запас винтовок… И сколько, вы думаете, винтовок было? – Он склонил голову немножко в сторону и перебегал взглядом с одного лица на другое. Все молчало. Тогда он опустил голову на грудь и тихо, но внятно, с оттенком грусти, но и с некоторым пренебрежением кинул: 18 миллионов 800 тысяч.
Эту цифру он сказал легко, словно всю жизнь он возился с такими крупными цифрами и они смертно ему надоели. Все заахали, но Андрей Филиппыч молчал. Цифру он больше не повторил и, желая оставить в слушателях более глубокое впечатление, начал о другом:
– А то разве отдали бы мы все свои крепости? Да и опять же вестей никаких; а вот и теперь вестей никаких не будет, и не будет их до скончания воины. Теперь уж мы взяли и Белосток, и Вильна наша, только про это еще тайком слышно, а писать не будут, а он, неприятель-то, говорят, хотел напереть на Гродну…
– Так, Андрей Филиппыч, ведь Гродну-то мы раньше отдали.
– Нет. Нет, не отдавали.
Тут уж со всех сторон стали уверять, что Гродна отдана. Он затих:
– А может быть. Не помню только, чтобы отдавали. Значит, это другой город.
После этой ошибки слушатели сделались как-то небрежны и фамильярны: ходили по палате, кашляли, зевали и даже начали вслух переговариваться между собой. Видя, что интерес слушателей понизился, Андрей Филиппыч умолк, закутался в одеяло и больше за целый вечер не пытался ничего рассказывать.
23 января
На Курском вокзале случился любопытный и тяжелый факт: привезли 3 солдат, увешанных Георгиями, и поставили к стене, да и не поставили, а приставили, потому что не было у них ни рук, ни ног: ноги были отняты к самым пахам, а руки по плечи. Одного поставили в угол; прислонился он туловищем к стенам – и ничего, держится; товарищей заключили в решетки, наподобие кресел, только без сиденья, опустили их на мягкие, дутые приспособления и отошли. А тут народ посгрудился, стали рассматривать, вздыхать, жалеть и горевать по ним; солдаты молчали и грустно обводили исстрадавшимися глазами подходящих незнакомых людей. Но вот из толпы выделились три женщины и, пристально всматриваясь в лица калек, узнали в них своих мужей. Они знали об их прибытии, но до сих пор не могли найти. Произошла странная заминка, судорожная, тяжелая неловкость: жены узнали мужей, мужья узнали жен, но поцелуя не было.
И когда женщинам предложили взять калек с собою, они отказались.
– Вам дают по 300 рублей в год на их содержание.
– Нам тысяч не надо… Куда они нам такие-то?.. Мы лучше сами будем работать дни и ночи, не надо нам ваших денег, но не надо и калек.
Они отказались. А по щекам у несчастных катились горячие слезы, и вместо слов укоризны из груди вырывались только тяжелые вздохи да хриплые всхлипывания. Их отправили в богадельню, а жены под ропот и гул толпы ушли восвояси.
Вот и весь факт. А в Риге был подобный: когда жена увидела мужа без рук и без ног, прислоненного к стене, она обернулась и злобно крикнула:
– Что вы обманываете меня? Да разве я не знаю своего мужа, разве я такого посылала? Не хочу, это не он…
И она отказалась.
А вот в Рязанскую губернию привезли одного в деревню, так там приняли, приняли с горячей любовью, с глубоким состраданием, с обетом в душе ходить за ним до гроба, но это была мать, а где же видано, чтобы мать отказалась от своего детища?
И вот выступают на сцену двоякого рода соображения. Женщины, связанные с этими калеками, прежними своими мужьями, только условиями официального брака, но не любовью, не делают ничего дурного, отказываясь принять калек мужей, а с другой стороны, мать делает что-то неизмеримо прекрасное, святое и торжественное, молчаливое, со сдавленным рыданием принимая изувеченного сына. Видите ли, у жен не было такой тесной связи, такой любви к своим мужьям, чтобы любовь эта поборола все попутные соображения. А попутные соображения не в грош ценой – они равнялись самой жизни этих отступниц жен.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дневник. 1914-1916"
Книги похожие на "Дневник. 1914-1916" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Фурманов - Дневник. 1914-1916"
Отзывы читателей о книге "Дневник. 1914-1916", комментарии и мнения людей о произведении.