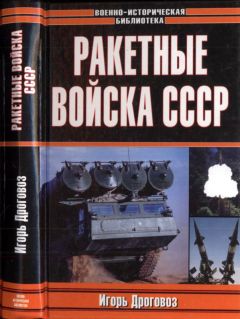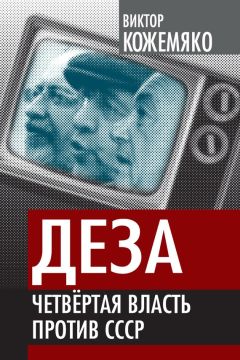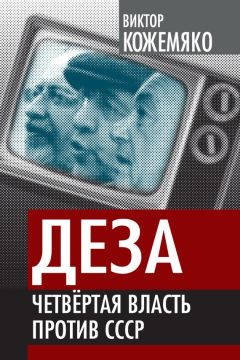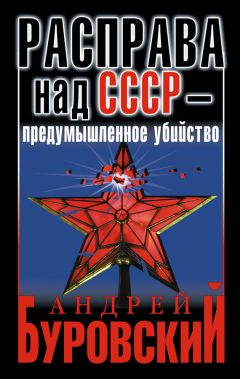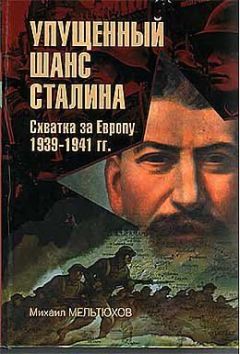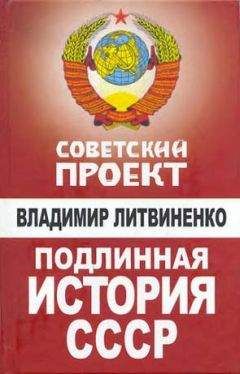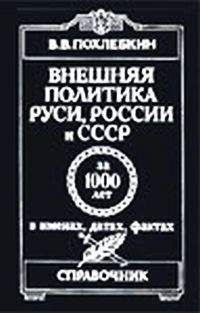Олег Кен - Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934
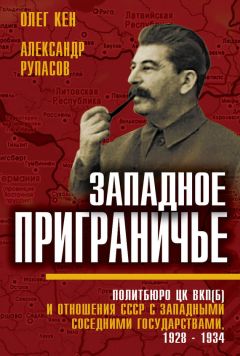
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934"
Описание и краткое содержание "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934" читать бесплатно онлайн.
История Советского Союза – во многом история восстановления, расширения и удержания статуса мировой державы. Неудивительно, поэтому, что специалисты по внешней политике СССР сосредоточивали свое главное внимание на его взаимодействии с великими державами, тогда как изучение советской межвоенной политики в отношении «малых» восточноевропейских государств оказалось на периферии исследовательских интересов. В наше время Москва вновь оказалась перед проблемой выстраивания взаимоотношений со своими западными соседями. Трудность осмысления сегодняшних проблем Восточно-Центральной Европы сочетается со сравнительной бедностью комплексного анализа истории взаимоотношений между СССР и его западными соседями.
Существовала ли у руководства СССР целенаправленная политика в отношении западных соседей? Как формировалась советская «внешняя политика»? Как строился процесс принятия решений и насколько существенные перемены в нем произошли со вступлением СССР в «сталинскую эпоху»? Эти проблемы, многие из которых на протяжении более полувека будоражили сознание современников и историков межвоенной эпохи, государственных деятелей и политических аналитиков, находились в фокусе внимания авторов предлагаемой книги – известных российских историков Олега Кена и Александра Рупасова.
Государственные архивы стран, отношения которых с Советским Союзом, оставляли желать лучшего, также содержат материалы о деятельности Политбюро, полученные в результате упорных профессиональных усилий дипломатов[178]. Так, видный государственный деятель Финляндии Рудольф Холсти (друг юности Отто Куусинена[179]) в период пребывания на посту посланника в Ревеле (1923–1926) периодически направлял МИД сообщения об обсуждении высшими партийными инстанциями советской политики в Балтийском регионе. В частности, согласно докладам Холсти, в декабре 1925 г. Политбюро дважды рассматривало ближайшие задачи советской политики на Балтике, причем Зиновьев, Сталин, Дзержинский, Молотов и представители НКВМ высказывались в пользу «возврата» портов и даже присоединения прибалтийских государств к СССР военной силой, тогда как Каменев, Рыков, Томский, Сокольников, Рудзутак, а также Литвинов склонялись к расширению советского присутствия на Балтике посредством заключения торговых договоров и таможенных союзов[180]. Для полной критической оценки этой серии финских документов (следы которой уходят в архивные хранилища США, куда позднее эмигрировал Р. Холсти) и других, пока не вошедших в научный оборот иностранных свидетельств о деятельности Политбюро, недостает, однако, материалов из архива Политбюро, «законное» происхождение которых находится вне подозрений. Параллельное расширение круга отечественных и зарубежных документов и выработка методов их критического сопоставления могли бы заставить заговорить (пусть и на иностранных языках), сухие протокольные записи Политбюро, помочь различить индивидуальные голоса в хоре его коллективных решений.
* * *Завершая рассмотрение механизмов подготовки, принятия, фиксирования и распространения решений Политбюро по внешнеполитическим проблемам, мы хотели бы подчеркнуть, во-первых, недостаточную освоенность документальных пластов, содержащихся в отечественных архивах, в том числе, в общедоступных коллекциях ЦК ВКП(б). Во-вторых, современная Россия – отнюдь не единственная страна, архивы которой хранят важные свидетельства о деятельности Политбюро ЦК ВКП(б). Комплексный анализ и архивные открытия разнообразных документов о деятельности советского Политбюро могут многое изменить в сегодняшнем взгляде на нее и порожденные ею проблемы.
Раздел 1
Решения Политбюро о государственных отношениях с западными соседними государствами
Каковы были стратегия и основные ориентиры международной политики СССР? Располагало ли советское руководство отчетливой внешнеполитической концепцией, планом строительства взаимоотношений СССР с окружающим миром, отдельными регионами и государствами? Поиски ответов на эти вопросы в протоколах Политбюро (в строках постановлений или между строк) дают отрицательный результат. Эта проблема тесно связана с другой, еще в 20-е гг. породившей два противостоящих направления в реляциях западных дипломатов и исследованиях советской внешней политики: является ли она результатом приложения к международным делам восторжествовавшей коммунистической идеологии, или же поведение СССР диктуется характерными для «нормального государства» факторами, потребностью обеспечить свои безопасность и «национальные интересы»?
Анализ решений Политбюро ЦК ВКП(б) (как включенных в настоящую работу, так и посвященных другим аспектам международной политики) и материалов НКИД СССР свидетельствует в пользу того, что этот спор может быть разрешен, исходя из двойственности природы советского политического мышления. Социально-психологические установки большевизма придавали подходу Москвы к внешнеполитическим делам эсхатологическое измерение. Ожидание Второго Пришествия мировой войны и пролетарской революции, обещающего коммунизму окончательную международную победу, диктовало, вместе с тем, решимость избежать преждевременного столкновения родины большевизма с силами мирового зла. Уже в начале 1918 г. в большевистском руководстве возобладало понимание, что в международных делах «государство принуждено делать то, чего не сделала бы партия»[181]. Коммунистическое кредо, открыто заявлявшееся в многочисленных постановлениях Политбюро ЦК ВКП(б) о советизируемой Монголии[182], оказывалось неуместно перед лицом западных государств, несовместимо с проблематикой действительных взаимоотношений с ними. Международное поведение Советской России в целом лишь до середины 20-х гг. соответствовало тому общему правилу, что «революционная держава морально и психологически все время находится в состоянии войны со своими соседями, даже если в правовом отношении между ними преобладает мир, ибо она верит, что обладает миссией трансформировать международное сообщество убеждением или силой [by conversion or coercion], и неспособна признать за своими соседями такое же право на существование, какое она приписывает себе»[183]. Если интернациональное воздействие Российской революции оказалось сопоставимо с преобразующей силой Реформации и Французской революции, то взять на себя роль Швеции Густава-Адольфа II или Франции Бонапарта отсталая и истерзанная страна оказалась не в состоянии. Во второй половине 1920-х гг. перспектива перерастания «перманентного террора» в «перманентную войну» была окончательно изгнана из сферы реальной политики, апостол «перманентной революции» – из социалистического отечества. Опыт первого десятилетия эры Октября не только подтверждал, что «Мессия уже в пути», но и отрезвляюще указывал на неисповедимость его путей. Милленаристские ожидания и режим реального времени, установки коммунистической доктрины и насущные государственные задачи не только не совпадали, но и пришли в видимое противоречие. Однако этот конфликт вовсе не требовал решительного исхода – окончательного выбора в пользу одной из сторон: общие мировоззренческие установки оказывались соотнесены скорее с ценностными ориентациями, предчувствиями и ожиданиями, нежели с задачами практической деятельности. В этом отношении предложенное Р. Ароном понимание советского человека как «двойственного субъекта», применимо к творцам советской политики. Правящая элита конца 20-х – середины 30-х гг. еще сохраняла политические идеалы, но уже отказалась от непосредственного связывания их с повседневными делами. Столкновение между видением будущего и диктатом настоящего породило квазиконцепцию внешней политики СССР на основе общих установок Realpolitik.
Применительно к рассматриваемому периоду эти принципы были наиболее полно изложены в утвержденной Политбюро публичной декларации 1930 г. Первым из них называлась необходимость «обеспечения нашему социалистическому строительству мирных условий и свободы от внешних потрясений». Подобно царскому режиму накануне войны, Политбюро обосновывало свое миролюбие потребностями внутренней реконструкции и неблагоприятными внешними условиями: «Нам приходится строить социализм в одной стране в окружении капиталистических стран, занимающих 5/6 земного шара. Мы этого факта не можем игнорировать и не игнорируем… Нам приходится… делать величайшие усилия для борьбы с агрессивными стремлениями определенных капиталистических групп, идущих в сторону создания постоянных трений и конфликтов между обеими системами, следовательно, и для укрепления и сохранения мира между народами»[184]. Прошедшие школу марксистской диалектики, советские руководители понимали, что «мир неделим» задолго до того, как отчеканенная Литвиновым в 1920 г., эта формула приобрела широкое хождение[185], равно как и то, что «благодаря войне между капиталистическими государствами мы захватили власть и укрепились». Высшее политическое руководство не могло поэтому согласиться с однозначными заявлениями, будто «всякое [курсив наш. – Авт.] обострение антагонизмов Германия – Антанта, Франция – Италия, Италия – Юго-Словакия [sic], Англия – Америка означает упрочение нашего положения, уменьшение всяких опасностей для нас»[186]. Перед мысленным взором государственных деятелей стоял пример 1914 г., когда начавшийся в европейском захолустье конфликт стремительно вовлек в войну страны, интересы которых были затронуты им лишь косвенно. Это понимание было присуще и большевистским руководителям. В середине 30-х гг. его бесхитростно выразил «всесоюзный староста»: «Мы… не возражали бы» «против этой [империалистической. – Авт.] войны», «если бы она могла ограничиться, например, только войной между Японией и Америкой или между Англией и Францией»[187]. В конце 20-х – начале 30-х гг. (с началом активной хозяйственной реконструкции и до возобладания ориентации на автаркию) необходимость сохранения мирных отношений СССР с окружающими странами дополнительно акцентировалась ссылкой на потребности пятилетки и «огромного развития и нашего экспорта и нашего импорта», отчего, заявлял руководитель СНК СССР, «в развитии наших мирных отношений… мы теперь заинтересованы не менее, а более, чем раньше», и «стремимся к такой прочности и устойчивости отношений с отдельными государствами, чтобы с этой стороны не получить пробоины или урона в осуществлении величайшего плана гигантских работ, которые изложены в пятилетке»[188].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934"
Книги похожие на "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Олег Кен - Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934"
Отзывы читателей о книге "Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934", комментарии и мнения людей о произведении.