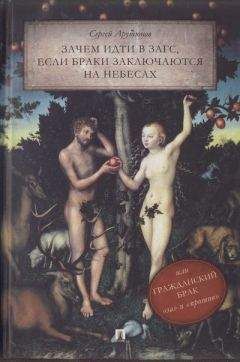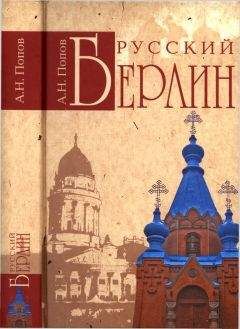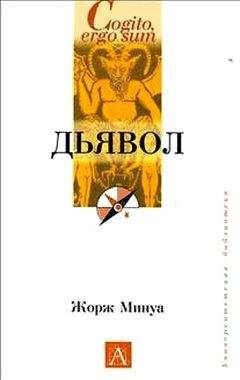Александр Амфитеатров - Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков"
Описание и краткое содержание "Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков" читать бесплатно онлайн.
В Евангелие от Марка написано: «И спросил его (Иисус): как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, ибо нас много» (Марк 5: 9). Сатана, Вельзевул, Люцифер… — дьявол многолик, и борьба с ним ведется на протяжении всего существования рода человеческого. Очередную попытку проследить эволюцию образа черта в религиозном, мифологическом, философском, культурно-историческом пространстве предпринял в 1911 году известный русский прозаик, драматург, публицист, фельетонист, литературный и театральный критик Александр Амфитеатров (1862–1938) в своем трактате «Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков». Опыт был небезуспешный. Его книгой как справочником при работе над «Мастером и Маргаритой» пользовался великий Булгаков, создавая образы Воланда и его свиты. Рождение, смерть и потомство дьявола, бесовские наваждения, искушения, козни, адские муки, инкубы и суккубы, ведьмы, одержимые, увлечение магией и его последствия, борьба Церкви с чертом и пр. — все это можно найти на страницах публикуемой нами «энциклопедии» в области демонологии.
Писатель Иван Шмелев не без некоторой доли ехидства похваливал язык бесчисленных его романов — «живой, с русской улицы, с ярмарки, из трактира, из гостиных, из „подполья“, из канцелярий, от трущоб». Беллетрист и критик Александр Измайлов поругивал: скачет Амфитеатров по верхам, «бегом через жизнь, не давая ее углубленной трактовки». Иные говорили, что он — как Эмиль Золя, другие тут же поправляли: «маленький русский Золя». Алексей Сергеевич Суворин, творец репутаций, как-то обмолвился: «Что и говорить, человек талантливый, но уж не бог весть что такое. Ему под сорок. А сделал он мало». Злоязычный Виктор Буренин, первое перо «Нового времени», по словам Суворина, называл Амфитеатрова «талантливым, но глупым». А «матерый человечище» Лев Толстой, если верить тому же источнику, отказывал нашему герою и в талантливости.
Особенно интересны отзывы Чехова об Амфитеатрове. Их судьбы чуть-чуть пересеклись и в этом пересечении успели бросить друг на друга весьма поучительные отблески. Антон Павлович и Александр Валентинович, почти ровесники, вместе начинали литературный путь в юмористических журнальчиках 1880-х годов: в «Будильнике» у Николая Петровича Кичеева, в «Осколках» у Николая Александровича Лейкина. Оба вскоре завоевали, как забавники-фельетонисты, известность — не слишком почетную, правда, напоминающую отчасти известность модных куртизанок. Чехов тогда был проникнут идеей коллективного писательства. В письме собрату по перу Владимиру Тихонову (1889) он формулировал это так: «Я… верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни „слоном среди нас“ и ни каким-либо другим зверем и что мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а „восьмидесятые годы“, или „конец XIX столетия“. Некоторым образом артель». Что это, если не апология литературных принципов «третьего ряда»?
Прошли годы. Чехов стал великим при жизни, всеобщим умом, честью и совестью, а за Амфитеатровым закрепилась репутация поверхностного борзописца и бойкого фельетониста, успешного артельщика литературы. Пройдут еще десятилетия, и Чехов будет отлит в бронзе, вписан отдельной главой в учебники русской словесности. Амфитеатров переживет Чехова на 34 года, но также переживет и собственную известность и надолго будет вычеркнут из списков литературных знаменитостей.
За три месяца до своей смерти Чехов, вдыхавший в Ялте последние порции целебного крымского воздуха, получил от Амфитеатрова письмо, трогательное, как всякое обращение здорового к умирающему, и две статьи, напечатанные в газете «Русь», — одна про Московский художественный театр, другая — про чеховский «Вишневый сад». Ответ Чехова проникнут дежурной вежливостью с хорошо дозированным радушием. Статьи он прочел «с большим удовольствием». «От этих ваших рецензий так и повеяло на меня чем-то давним, но забытым, точно вы родня мне или земляк…» Чехов любил делать людям приятное. Однако в письме жене, Ольге Леонидовне Книппер, годом раньше он высказался прямее и безнадежнее: «С Евлалией (так Антон Павлович то ли по ошибке, то ли с сознательной иронией называет жену Амфитеатрова, Иларию Владимировну, по сцене Райскую. — А. И.-Г.) я знаком, знаю ее. Статьи ее супруга читаю иногда в „Русском слове“, но пока они мало интересны». Это «пока» в применении к< сорокалетнему писателю — почти приговор.
Та же сдержанная двойственность оценок Амфитеатрова-литератора — в письмах Чехова к Суворину. Журналист, писатель, антрепренер и великий делец А. С. Суворин — еще один пункт пересечения биографий Чехова и Амфитеатрова. Для первого Суворин долгое время оставался главным издателем, другом и корреспондентом. Второй много лет сотрудничал в уже упомянутом суворинском «Новом времени», самой ненавидимой «передовой общественностью» и самой читаемой газете России. Ушел из нее со скандалом, о чем — чуть позже. В письме Суворину 22 октября 1892 года Чехов роняет фразу постскриптум: «Амфитеатров хорошо пишет». Тому же Суворину через месяц: «Фельетоны Амфитеатрова гораздо лучше, чем его рассказы. Точно перевод со шведского». Еще откровеннее — в письме брату Александру 5 февраля 1899 года: «Как-никак, а в общем „Новое время“ производит отвратительное впечатление… (далее Чехов перечисляет с негодованием пороки сего издания. — А. И.-Г.) А ястребиные налеты Амфитеатрова! Это не газета, а зверинец…» Среди суворинских зверей есть такое животное — Амфитеатров. Если не хуже других, то и не лучше.
Антон Павлович дает, пожалуй, самую точную характеристику стиля беллетристических произведений Амфитеатрова: «перевод со шведского». То есть не оригинал, а переложение с чужого, не очень понятного языка. Этакая усредненная литература, в чтении которой читатель ищет не сжигающих душу откровений, а душевного комфорта. Он платит за книгу деньги и вправе получить ожидаемое. Его надо не стращать, а чуть попугивать, не изумлять, а слегка удивлять, де жечь глаголом, а приятно и пикантно щекотать. Амфитеатровские «переводы со шведского» полным-полны хорошо дозированной экзотикой и душевной щекоткой. К тому же они написаны языком хотя и сравнительно богатым, но простым, без творческих вывертов.
В подтверждение чеховской мысли сейчас же приведем и образчик. Вот, к примеру, роман — один из множества амфитеатровских романов. «В стране любви». Хорошее название, не правда ли? Угадайте, какая страна так пламенно именуется? Угадали. Действие происходит в Италии. Действующие лица — угадайте кто? Правильно, русские форестьеро, среди которых видим и талантливого, но несчастного художника, и одного-двух светских мерзавцев, и скучающую прекрасную даму, супругу богатого старика, с которой крутит безумный роман главный герой. Герой этот — писатель и супермен, в образе которого явственно просматриваются портретные черты автора… «Угадайку» можно продолжить и дальше: без кого еще невозможен полнокровный бульварный роман о русских в Италии? Разумеется, без очаровательной молодой итальянки и ее ревнивого ухажера. Они и появляются на первых страницах. Красота итальянки описана следующим образом.
«Это была, действительно, одна из прекраснейших девушек, какие когда-либо рождались даже и под южным солнцем. Не большая и не маленькая, стройная, еще не совсем развитая фигура ее производила впечатление поразительной гибкости, юной, девической упругости… В ней было что-то дикое и вместе благородное. Черты лица ее были правильны, но полны жизни…; кожа смуглая, но не грубая, янтарно-прозрачная, с румянцем, как на вызревающем персике; огромные глаза, — карие, а не черные, как казалось с первого взгляда благодаря длинным ресницам, — и ослепительной белизны зубы придавали этому вечно улыбающемуся лицу столько света и веселья…»
Достаточно. Все понятно. Штамп на штампе. Солнце какое? Южное. Белизна какая? Ослепительная. Ресницы какие? Длинные. А девушка какая? Одна из прекраснейших. (Уж лучше было бы — просто «прекраснейшая». Получилось бы что-то восточное: «Прекраснейшая!». «Огромные глаза», «ослепительной белизны зубы», «румянец, как на вызревающем персике» — прямо картинка из журнальчика подростковых комиксов. Точно такими же штампами написан весь роман. Естественно, ревнивый любовник, Отелло и Эскамилио в одном лице (разумеется, моряк и, разумеется, неаполитанец), убивает «одну из прекраснейших» (пыряет ее ножом). Потрясенный этим событием главный герой решает разорвать отношения с замужней возлюбленной, рассуждая следующим образом: «Давно ли я — опытный стареющий человек с сединой в волосах — горячился, выкрикивал монологи и ставил в них жизнь на карту за честную любовь. Слова, слова, слова! <…> Альберто знал, за что любил Джулию: он ее добивался, как тигр добивается тигрицы. А я не знаю…» И так далее. Писатель добивается успеха у невзыскательного читателя примерно таким же способом, каким тигр добивается тигрицы. После Толстого и Достоевского несколько простовато.
Для того чтобы больше не возвращаться к теме художественных достоинств произведений Амфитеатрова, сообщу, что остальные его произведения ничуть не лучше. Бойкие переводы с усредненного иностранного. Так почему же его сочинения вновь стали переиздаваться? Может, ключик к разгадке этой неожиданной актуальности в его биографии? Посмотрим.
Наш герой изволил родиться Филипповым постом — 14 (26) декабря 1862 года в Калуге, в семье соборного протоиерея Валентина Амфитеатрова.
Интересное это было сословие в Российской империи — духовенство. Плохо исследованное, мало описанное, оно так и осталось одной из великих загадок русской культуры и общественной жизни XIX — начала XX столетия. Писатели-дворяне относились к его быту и лицам свысока и не удостаивали своим благородным вниманием. Интеллигенты-разночинцы, проникнутые духом социальных утопий, презирали его, хотя многие из них как раз были выходцами из его глубин. Среди светил литературы «золотого» и «серебряного» веков один только Лесков в «Соборянах» предпринял серьезную попытку проникнуть внутрь этого своеобразного и богатого мира и явить его «образованному» обществу. Прямо скажем: «образованное» общество не проявило к попытке Лескова должного интереса…
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков"
Книги похожие на "Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Амфитеатров - Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков"
Отзывы читателей о книге "Дьявол в быту, легенде и в литературе Средних веков", комментарии и мнения людей о произведении.