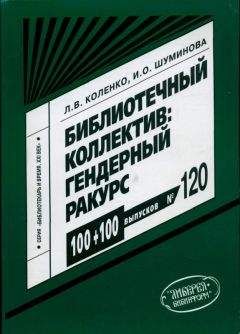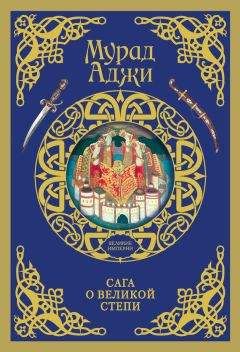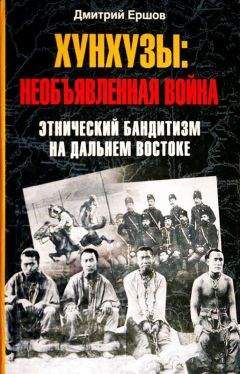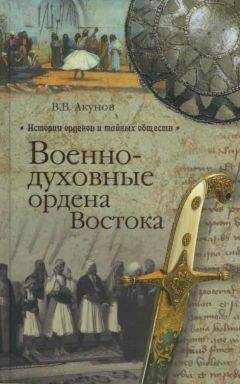Коллектив авторов - Средневековая Европа. Восток и Запад

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Средневековая Европа. Восток и Запад"
Описание и краткое содержание "Средневековая Европа. Восток и Запад" читать бесплатно онлайн.
Коллективный научный труд «Средневековая Европа: Восток и Запад» открывает серию публикаций Лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ, посвященных вечной и вместе с тем неисчерпаемой теме отечественной медиевистики: взаимоотношениям латинского Запада европейского субконтинента и православного (а отчасти и мусульманского) Востока. Из бесконечного разнообразия возможных сюжетов для данного издания отобраны лишь до сих пор глубоко не изученные. Во-первых, разбираются брачные стратегии и стратегии имянаречения в среде правящей элиты разных обществ Северной и Восточной Европы – от Скандинавии до Грузии. Во-вторых, прослеживается циркуляция текстов и идей в средиземноморском регионе на примере распространения подлинных и мнимых сочинений Аристотеля. В-третьих, проводится сопоставление моделей отношения к иноверцам, выработанных на латинском Западе и на православном Востоке. В-четвертых, анализируются посольские церемонии (и их описания заинтересованными свидетелями) при встрече представителей Востока и Запада в 1576 г. И наконец, в заключение показывается, как классическая российская медиевистика XIX–XX вв. сама складывалась в ходе осмысления вопроса именно об историческом соотношении Востока и Запада Европы.
Для историков, филологов, религиоведов и политологов.
Когда же Юрий вскорости получил киевский стол, Ростиславу удалось примирить с ним и своего младшего брата Владимира Мачешича, и своих племянников Изяславичей[110].
В этой перспективе следует вспомнить, по-видимому, что и существенно раньше, когда Изяслав Мстиславич был жив, в летописном повествовании, передающем переговоры двух Мстиславичей относительно возможного примирения с черниговскими князьями, Ростислав, во всем полагавшийся на волю брата, представлен при этом как изначальный поборник мира с родичами черниговцами[111]. Таким образом, то обстоятельство, что именно его сын берет в жены дочку Святослава Ольговича, кажется отнюдь не спонтанным. Возможно, такое свойство даже и в первые, неблагополучные для сближения этих княжеских домов годы подспудно обеспечивало Ростиславу, более гибкому из двух братьев, особое положение в борьбе различных родовых ветвей династии Рюриковичей[112].
В полной мере результаты этой длительной стратегии Ростислава проявились еще позднее, когда после смерти Юрия Долгорукого Ростиславу удалось склонить свата, Святослава Ольговича, на свою сторону в противостоянии с Изяславом Давыдовичем, хотя по рождению Святослав был гораздо ближе Давыдовичам, приходясь им двоюродным братом. Тем не менее довольно долго не разрывая полностью с кузеном, Святослав Ольгович как будто бы предпочел тому своих сватов, сначала Юрия Долгорукого, а затем – Ростислава Мстиславича. Известие об окончательном водворении Ростислава в Киеве в 6668 г. сопровождалось весьма детализированным рассказом о встрече Ростислава и Святослава в Моровийске и о последовавших за тем пирах и церемониальном обмене дарами[113]. Любопытно, что первый дар Святослава Ольговича воспроизвел тот, что он преподнес почти за 15 лет до этого Юрию Долгорукому – Святослав подарил свойственнику пардуса, скопировав, таким образом, ситуацию, предшествовавшую его первому браку.
Не менее существенно, конечно, что Ростислав, как в свое время и Юрий Долгорукий, уже при жизни Святослава Ольговича проявлял особенный интерес к его старшему сыну Олегу, попытавшись не только сделать того близким союзником, но и оставить на какое-то время при себе в Киеве[114]. Попытка эта, как известно по летописи, не удалась, однако внезапный отъезд Олега из Киева отнюдь не привел к ссоре его отца с Ростиславом Мстиславичем[115].
Вообще складывается впечатление, что в ту пору Олега пытаются привлечь на свою сторону и свойственники, и кровные родственники. Ростислав, как мы видим, поначалу не преуспел в этом, тогда как его сопернику, двоюродному дяде Олега, Изяславу Давыдовичу, это вполне удалось. Тем не менее отец Олега, Святослав, в очередной раз не захотел участвовать в предприятии своего кузена Изяслава Давыдовича против Ростислава Мстиславича, хотя к Давыдовичу в тот момент присоединились и родные племянники Святослава, и его собственный сын[116]. Ростислав же, как это было, по-видимому, ему вполне свойственно, не сумев немедленно «завербовать» наследника Святослава Ольговича, лишь отложил этот замысел, а не отказался от него.
Не менее интересен в перспективе взаимоотношений двух свойственников подробный летописный рассказ о том, как Ростислав Мстиславич воспринял известие о кончине своего свата. Именно это сообщение навело Ростислава на мысль (так и неосуществленную до самой смерти) о пострижении в монашество или по крайней мере о сложении с себя власти и удалении от мирской жизни[117]. Его беседы об уходе из мира с печерским игуменом Поликарпом явно демонстрируют, что Ростислав, если так можно выразиться, мерил собственную жизнь по жизни Святослава Ольговича, и внезапная смерть последнего заставила его задуматься о близости собственного конца, о возможности «напрасный смрти»[118].
Обыкновенно, насколько мы можем судить по летописям, такое уподобление судеб было возможно, когда речь шла или о князьях, принявших мученическую кончину, или о самых близких кровных родственниках, отце или деде[119]. Таким образом, в случае с союзом, некогда заключенным между сыном Ростислава Мстиславича и дочерью Святослава Ольговича, мы имеем дело, по-видимому, не просто с отношениями, лежавшими не только и не столько в области немедленной военно-политической тактики (хотя и она в свое время не сбрасывалась со счетов), но с длительной, глубинной стратегией межсемейных родовых связей, то сугубо подспудно, то более явно влиявших на династическую жизнь Рюриковичей. Как кажется, именно союзы такого рода не допускали окончательного и бесповоротного разрыва между ветвями династии, несмотря на всю силу текущих конфликтов.
Таким образом, для Ростислава женитьба овдовевшего Олега Святославича на его дочери позволяла восстановить ту основательную и устойчивую связь с домом Ольговичей, которая в значительной степени была подорвана смертью Святослава Ольговича. Жена Романа, уже 15 лет назад отделившаяся от своей черниговской родни и остававшаяся с мужем в Смоленске, теперь не могла, по-видимому, служить достаточно надежным соединительным звеном между своими братьями и Киевом. Благодаря же замужеству Агафьи киевский князь, помимо всего прочего, обеспечивал себе естественное старшинство над главными представителями черниговского дома. Святослав Всеволодич приходился ему родным племянником по сестре, и, коль скоро Олег становился теперь его зятем, Ростислав мог брать на себя роль своеобразного третейского судьи над всеми Ольговичами.
Как уже отмечалось выше, еще более выгодным, если не сказать – жизненно необходимым, был этот союз для Олега Святославича. С одной стороны, в новой, куда менее комфортной для него династической ситуации Олегу удалось как бы еще раз подтвердить свой родовой статус, сделавшись зятем очередного киевского князя, одного из Мстиславичей, некогда противостоявших Юрию Долгорукому. С другой стороны, он получил, что еще более существенно, практическую поддержку могущественного тестя. О том, что эта поддержка была вполне осязаемой, мы узнаём из известий, помещенных в летописи буквально под следующим годом после сообщения о свадьбе Олега и Агафьи Ростиславны.
В этом году развернулся новый этап несогласия кузенов, Святослава Всеволодича и Олега Святославича: во Вщиже умер их троюродный брат, Святослав Владимирович, последний представитель линии Давыдовичей, и сидевший в Чернигове Святослав Всеволодич отдал Вщиж вовсе не нашему Олегу, а его полному тезке – собственному сыну Олегу Святославичу. При этом некую «лепшую волость» (по-видимому, Стародуб) Святослав Всеволодич передал своему родному брату Ярославу, и произошло это снова в обход кузенов, прежде всего интересующего нас Олега. Согласно показаниям летописи, Ростислав принял в этом конфликте сторону зятя и много раз посылал к племяннику, «велѧ ему оу правду надѣлити Ѡлга. и добра имъ хота»[120].
Поначалу Ростиславовы уговоры ничего не дали, и соперники перешли к военным действиям, причем Всеволодичи в какой-то момент затеяли поход на Новгород-Северский. Однако посредничество киевского князя, по-видимому, все же возымело определенный результат – войско Ярослава Всеволодича не дошло до Новгорода: Ростислав, узнав о болезни Олега, велел зятю мириться с двоюродными братьями. Для Олега мир этот оказался небесплоден, потому что при его заключении он получил от Святослава некие четыре города, и «правда» хотя бы отчасти была восстановлена.
Ситуация в летописи представлена таким образом, что Ростиславу не было нужды прибегать к военному вмешательству, скорее, он взял на себя миротворческие функции отца, улаживавшего дела своих подросших подопечных. Еще в большей степени эта интенция проступает в рассказе о поездке, предпринятой Ростиславом накануне смерти, когда он поочередно объезжал родных сыновей и зятя, Олега, причем его поездка сопровождалась как церемониальными мероприятиями, так и разрешением текущих конфликтов[121]. Нетрудно убедиться, что в этом описании роль зятя немногим отличается от роли родных сыновей киевского князя, хотя в летописи мы не найдем указаний на то, что Ростислав именовал Олега сыном, а тот его отцом, подобно тому как много лет спустя будут именовать друг друга отцом и сыном Рюрик Ростиславич и его зять Роман. Тем не менее можно утверждать, как кажется, что в отношениях Ростислава и Олега реализовалась – пусть и в ослабленном виде – такая модель княжеских взаимоотношений, когда для зятя, не имевшего ни родного отца, ни родных дядьев, ни родных старших братьев, свойство хотя бы на время приравнялось к кровному родству, и соответственно тесть взял на себя отцовские функции.
Однако Ростислав, который по меркам той эпохи был уже весьма немолод, умер, как уже говорилось, всего лишь несколько лет спустя после свадьбы Олега и Агафьи (вспомним, что мысли о возможной кончине все чаще посещали его после смерти родного отца Олега, Святослава Ольговича). Был ли в таком случае союз Олега с Ростиславной сугубо тактической затеей, рассчитанной лишь на немедленную помощь в противостоянии с кузенами? Сохранил ли Олег сколько-нибудь тесные отношения с мужской частью семьи Ростислава Мстиславича после его смерти?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Средневековая Европа. Восток и Запад"
Книги похожие на "Средневековая Европа. Восток и Запад" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " Коллектив авторов - Средневековая Европа. Восток и Запад"
Отзывы читателей о книге "Средневековая Европа. Восток и Запад", комментарии и мнения людей о произведении.