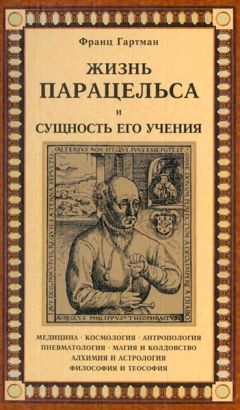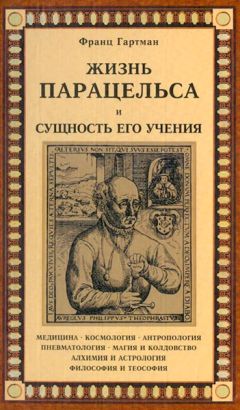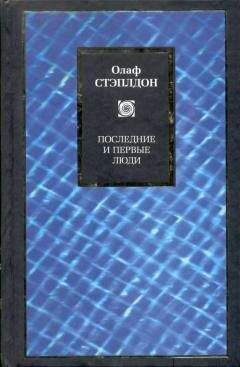Николай Омельченко - Первые принципы философской антропологии

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Первые принципы философской антропологии"
Описание и краткое содержание "Первые принципы философской антропологии" читать бесплатно онлайн.
Настоящая монография посвящена анализу тех первых принципов, на которых может быть построена философская антропология, наиболее адекватно представляющая сущность человека.
Природа, высвечивая на интеллектуальном дисплее слово «Абсурд», предлагает человеку задуматься над своими претензиями. Допуская в мире наличие конечного абсолюта, мы предвещаем его будущее воплощение в виде окончательной истины, идеального состояния мира, общества и человека. Тем самым предусматривается исчерпание этого абсолюта и его переход в ничто. Другими словами, исчерпаемый абсолют смертен, он предполагает вечное ничто. Имея это в виду, мы начинаем понимать, что в реальном мире такого абсолюта нет и быть не может. Бесконечная природа не терпит конечных абсолютов, и потому наша претензия на абсолютную истину, на какой-либо конечный абсолютный принцип не уместна.
Единственно возможным абсолютом является бесконечный Космос. С этой точки зрения абсолютная истина есть бесконечная истина. Тогда наша тоска по абсолюту превращается в тоску по бесконечности, наша жажда абсолюта оказывается жаждой бесконечности, бессмертия. Но если и теперь я буду продолжать настаивать на своем стремлении поглотить, вместить в себя бесконечный абсолют, то нелепость моего желания становится трижды очевидной. Каприз моего духа превращает весь мир в абсурд.
Вместе с тем следует отметить, что наша тоска по бесконечности, по бессмертию не является совершенно беспочвенной. Это чувство имеет свои основания, поскольку каждый человек представляет собой единство конечного и бесконечного, смертного и бессмертного.
Человек есть homo creans. Когда же у человека отнимают возможность творчества, его лишают «доли бессмертия и вечности», оставляют ему только тварное, смертное, конечное существование. Поэтому людей можно понять: их бесчеловечное положение в мире рождает отчаяние, тоску по абсолюту, т. е. по бессмертию. И в этой глубокой печали человека слышится его тоска по собственной сущности.
Тоска по абсолюту накладывает печать и на рассуждения Камю о творчестве. Как отмечает писатель, оно требует многих усилий, владения самим собой, меры, точной оценки границ истины. Творчество есть род аскезы. И все это «ни для чего», потому что «у творчества нет будущего»: всякое произведение рано или поздно будет разрушено. Камю говорит о полной бесполезности творчества. Творец — самый абсурдный из всех персонажей (см. Камю 1989, 286, 302–304).
Видимо, действительно творчество оказывается абсурдным, когда оно доступно немногим единицам, когда оно является исключением, а не правилом человеческого бытия. Творчество изолированного индивида становится абсурдным в условиях всеобщей бессмысленности. Абсурдное творчество есть самовыражение, эманация абсурда. Человеческому творчеству абсурд враждебен. Глубоко символично, что Сизиф занят рутинной, сугубо механической работой, он не является творцом. Механическая, полумертвая, примитивная действительность поддерживает абсурд, творчество людей преодолевает его.
Кроме того, мы, отчасти благодаря Платону, знаем, что личность в своем творчестве прикасается к бессмертию. Однако современный художник не хочет «доли бессмертия», он требует всей вечности для своего произведения. Иначе говоря, художник настаивает на божественном уделе, он сам желает стать абсолютом. В итоге он получает… абсурд, что вполне закономерно.
Таким образом, мы приходим к следующим выводам. Всякий раз, когда мы захотим ввести в бытие какой-нибудь исчерпаемый абсолют, перед нами будет вставать сплошная стена абсурда. Эта непроницаемая пелена представляет собой негативную реакцию бесконечной природы на неудачную интеллектуальную операцию. Понятием «абсурд» объективный мир отвергает нашу произвольную гипотезу и предлагает смотреть на вещи более трезво.
К сожалению, нередко человеческий разум, упорствуя в своей ограниченной интерпретации, учреждает перманентную нелепость бытия. Сам человек оказывается со-творцом непреходящего абсурда, но при этом всю ответственность за его наличие перекладывает на внешнюю реальность (например, на историю, испорченный генофонд нации и т. д.). Поэтому если человек собирается избавиться от абсурда, он, как минимум, должен снять свое требование абсолюта. Эта экзистенциальная процедура приблизит его к истине, к подлинным метафизическим основаниям бытия.
По мнению эссеиста, «скачок во всех его формах, будь то низвержение в божественное или вечное, потеря себя в повседневных иллюзиях или в „идее“, — это ширма, прикрывающая абсурд» (Камю 1989, 286). Иначе говоря, любая человеческая ментальность — это ширма, скрывающая абсурд. Человек лукавит, когда верит, что данная ширма — подлинное и последнее бытие. Он просто боится страшной истины, спрятанной за разрисованным занавесом. Альбер Камю поднял занавес, и внезапная истина ослепила его. Весь мир предстал в виде тотального абсурда, где нет места человеку, там живут одни Сизифы со своим нелепым бунтом.
На самом деле именно неиссякаемый абсурд является еще одной иллюзией человеческого духа. Феноменология абсурда скрывает подлинный лик бытия, в котором есть своя Истина и Красота. Абсурд — это ширма, которую также следует убрать. Интеллекта Сизифа хватает лишь на то, чтобы видеть и культивировать абсурд. Преодолеть же последний — задача человеческого разума. Только для Сизифа мир является навеки абсурдным. Людям же не пристало помогать окружающему абсурду, наделяя его вечной, божественной сущностью.
Итак, требование абсолюта находится среди причин, которые вызывают к жизни абсурд. Как только мы начинаем исповедовать абсолютные принципы (идеи абсолютной истины и добра, абсолютной свободы и справедливости, абсолютного общества и т. п.), объективный мир всякий раз нам отвечает одно и то же: «Абсурд!». Тем самым он предлагает нам сменить методологическую парадигму, стать более разумными, внимательнее всматриваться в бытие и лучше понимать его. Своим ответом природа указывает на погрешность в нашей исходной метафизике. Разумеется, отказ от нее не упраздняет абсурд полностью. Исправление ошибки снимает всего лишь один слой нелепости и дает понять, что человеку под силу справиться с абсурдом.
д) Абсурд и бунт
Обращаясь к другим произведениям А. Камю, мы начинаем понимать, что сам философ не был удовлетворен решениями, представленными в «Мифе о Сизифе». Так, в повести «Чума» (1947) писатель рассказывает о другом, более реальном противостоянии абсурду. Когда в город пришла чума, жители повели себя по-разному: одни бросились в погоню за последними радостями, другие впали в полное безразличие к происходящему. Эпидемия до предела обострила чувство заброшенности и одиночества, когда никто «не мог рассчитывать на помощь соседа и вынужден был оставаться наедине со всеми своими заботами» (Камю 1990а, 168). Иначе говоря, чума превратила людей в Сизифов, которым оставалось одно — аккуратно катать свой камень и с ужасом ожидать своего конца.
Однако герои повести — доктор Риэ, Тарру и их друзья — избрали иной путь — путь человека. Они были твердо убеждены, что «необходимо бороться теми или иными способами и никоим образом не становиться на колени» (Камю 1990а, 211). У них была ясная цель: побороть чуму. И они боролись, как могли, прилагая максимум своих усилий. Вместе с тем Камю не делает вывода о том, что именно люди победили чуму. Он говорит о том, что болезнь будто иссякала сама собой (см. Камю 1990а, 311). Поэтому можно согласиться с теми литераторами, которые считают, что «граница между врачеванием и долготерпением выглядит в „Чуме“ подчас слишком расплывчатой и зыбкой» (Великовский 1990, 23).
Очевидно, существует несколько причин прекращения эпидемии. Но для нас важен прежде всего тот факт, что абсурд (чума) все же отступил, и, следовательно, он потерял свою атрибутивную характеристику вечности. Кстати, уязвимость абсурда заключается уже в самой надежде человека на избавление от него. По словам писателя, «когда население позволяет себе лелеять хоть самую крошечную надежду, реальная власть чумы кончается» (Камю 1990а, 312). Поставив под сомнение бесконечность и всесилие абсурда, мы получаем шанс одолеть его.
Имеются основания полагать, что решающим фактором отступления абсурда явилось все же упорное человеческое сопротивление. Сопротивление чуме — это то, «что следовало совершить и что, без сомнения, обязаны совершать все люди вопреки страху…» (Камю 1990а, 340). Эта борьба радикально отличается от бунта Сизифа. Доктор Риэ и его друзья стремились победить чуму, у Сизифа же нет и намека на преодоление абсурда. Для мифического героя все хорошо, и потому он улыбается своей особой улыбкой. Если Сизиф — улыбающийся раб, то доктор Риэ и его друзья — настоящие люди, которые реально противостояли абсурду. Их борьба была посвящена отрицанию смерти и тем самым служила утверждению человеческого бытия. Правда, они так и не узнали причин вспыхнувшей эпидемии.
По свидетельству самого Камю, «явное содержание „Чумы“ — это борьба европейского Сопротивления против фашизма» (цит по: Великовский 1973, 105). Принимая авторскую оценку, можно прийти к неутешительному заключению: Европа так и не узнала этиологию коричневой чумы. Опасно, если люди до сих пор пребывают в неведении относительно причин этого бедствия. Видимо, им стоит более внимательно всматриваться в абсурд, стремясь разглядеть его истоки, раскрыть тайну его происхождения, чтобы однажды их дом не накрыла ночь глобального тоталитаризма.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Первые принципы философской антропологии"
Книги похожие на "Первые принципы философской антропологии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Омельченко - Первые принципы философской антропологии"
Отзывы читателей о книге "Первые принципы философской антропологии", комментарии и мнения людей о произведении.